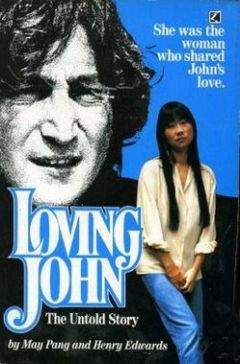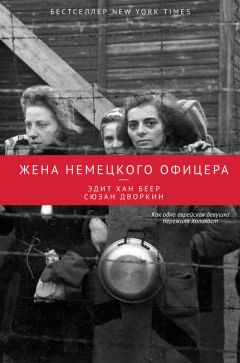Мне казалось, что говорили обо мне, она все время оборачивалась, рассматривая меня. Это была женщина редкой красоты — узкое лицо с носом Нефертити, весь ее тонкий, стройный облик походил на стрелу. Француженка, она прекрасно говорила по-немецки. Стиль ее пения — «ультрамодерн», по определению известных критиков; он воспринимается таким и сегодня, много-много лет спустя. Во время репетиций она поглядывала на Марцеллуса Шиффера, но, будучи прекрасной артисткой, всегда находила свое собственное решение, вплоть до мельчайших деталей.
Прошла неделя репетиций, и я была приглашена в ее гардеробную. Своими бледно-голубыми глазами она оглядела меня критически с головы до ног. Тут были автор, композитор, режиссер и еще несколько человек, которых я не знала. Говорили о новой песне, предполагалось, что исполнять ее мы будем вместе. Мне показалось, что я что-то не так поняла. Что же случилось?!
После того как я несколько пришла в себя, мне объяснили, что речь идет о пародии на «Сестер Долли». Мы обе, в одинаковых платьях, должны появиться на авансцене, исполняя песню «Мой лучший друг». При этом двигаться должны так, чтобы закончить песню в центре сцены.
По-немецки слово «друг» — мужского рода, но оно может быть применимо и к женщине. Естественно, в песне слово «друг» означало «подруга». Строчка текста с этим словом повторялась снова и снова много раз. Сегодня многие популярные песни строятся по такому же принципу повторения, разница в том, что Марцеллус Шиффер давал эти повторы в разных вариациях.
Платья для нового номера изготовлялись в большой спешке, и я была очень горда тем, что согласились с моим предложением: выступать в костюмах черного цвета и, конечно, в больших шляпах.
Когда я в первый раз увидела наши костюмы, они показались мне несколько траурными, и я предложила оживить их букетиками фиалок. О значении этих букетиков я ничего не знала, просто любила фиалки. Но с появлением в Германии пьесы Эдуарда Бурде «Пленный» бедные фиалки стали олицетворением лесбийского начала.
Критики писали тогда об «андрогинной песне», упоминая фиалки, которые прикололи к костюмам обе исполнительницы: одна — «звезда», другая — «умеренно одаренная новенькая». Я не отваживалась спросить Марго Лион, что она думает по этому поводу, боялась показаться глупой. В ревю песня имела большой успех. К ее финалу выходил Оскар Карлвайс и пел с нами последний рефрен.
Это шоу, как утверждали, намного опередило свое время. Да и мои старозаветные понятия — тоже. На сцене — никакой декорации, только мягкий задник. Каждый раз он подсвечивался по-другому и давал простор зрительскому воображению. В шоу у меня была и другая песня — «Клептоманы». Я ее исполняла с известным актером Хубертом Мейеринком. Персонажи, которых мы изображали, воровали не с целью обогащения, а в результате психического расстройства на сексуальной почве. Эту ситуацию, в отличие от предыдущей, я понимала.
Я ни с кем не подружилась в театре, где играла каждый вечер в течение многих месяцев. С благоговением я смотрела на звезду шоу — Марго Лион, но никогда не подходила к ней за кулисами. Я не пропускала ее коронных номеров, таких, как «Грустный час!». Мне нравилась ее песня «Невеста», которую она исполняла в подвенечном платье. Поскольку я участвовала в шоу, мне разрешали стоять за кулисами. Но, повторяю, я никогда не подходила к Марго Лион, поскольку никогда не осмелилась бы обратиться первой к тем, кто стоял выше меня. Я уже говорила, что хорошее воспитание имеет и свои минусы, особенно когда речь идет о карьере в театральном мире.
Тогда я и не подозревала, что позже, во время нацистского режима, я буду связана тесной дружбой с Мишей Шполянским и его семьей. Сегодня мы еще более близкие друзья. Оскар Карлвайс, которому все мы помогали убежать от нацистов через Испанию, недолго играл в Нью-Йорке, он вскоре умер.
Марго Лион после смерти мужа вернулась на родину. Она играла в кино и на телевидении и до сих пор остается моей лучшей подругой. Иногда только в экстремальных ситуациях завязываются крепкие связи.
Шоу «Это носится в воздухе» после многочисленных представлений закончилось совсем не так, как это происходит теперь. Не было ни прощальных вечеров, ни цветов, ни знаков благодарности от строгих учителей школы Рейнхардта. Мы просто покинули театр, как покидали после каждого очередного спектакля. Я осталась со своими старыми маленькими ролями. Снова автобусы и трамваи до того дня, как я в сотый раз произнесла свою единственную фразу в пьесе Георга Кайзера «Два галстука». На этом спектакле впервые увидел меня фон Штернберг[12] и решил взять из театра, чтобы дать жизнь в кино.
Не хочу много распространяться о пьесах и фильмах, в которых мне пришлось играть до встречи с фон Штернбергом. Они не так важны. Когда я начала эту книгу, то решила писать только о самых важных, а по возможности, наиболее интересных событиях моей жизни. Тем, кто прочел в книгах моих «биографов» длинный список фильмов, в которых я будто бы была звездой, должна сказать, что знаменитой я стала только после «Голубого ангела», однако и в этом фильме я не была звездой.
Свою первую главную роль я сыграла в фильме «Марокко», который был снят в Голливуде. Там мое имя появлялось на экране перед названием фильма. Тогда это не имело для меня большого значения, как, впрочем, и сейчас. Если мое имя писали перед названием фильма, то это лишь означало большую ответственность. «Под титулом» проще и уютнее. В списке действующих лиц «Голубого ангела» я не занимала и такого уютного места, поскольку значилась под «дальнейшими».
Точно так же и в театральных спектаклях. Если мое имя и упоминалось в программе, то без увеличительного стекла его прочитать было невозможно.
Никто не «открывал» меня и на сцене. Хотя и находятся люди, которые это утверждают. Все это неправда! Я уже говорила: Макс Рейнхардт никогда не видел меня на сцене. У него были дела поважнее, чем «открывать» юных актрис!
Ты — Свенгали, я — Трильби[13]
Я называла себя счастливой, и сегодня, когда прошло столько лет, продолжаю это утверждать. Фон Штернберг зачаровывал каждого, кто был с ним знаком. Наверное, я была слишком молода и глупа, чтобы понимать его, но я была очень предана ему. В школе Макса Рейнхардта нам внушали, что нужно подчиняться каждому режиссеру, с которым работаешь, даже если роль состояла из одной фразы. Преданность фон Штернбергу, безоговорочное признание его авторитета я сохранила на всю свою жизнь.
У Рейнхардта в Берлине было несколько театров, и в каждом шли разные спектакли. В течение одного вечера я могла играть служанку в первом театре, затем автобусом или трамваем добиралась до второго театра, в спектакле которого играла одну из амазонок, и наконец, уже в конце вечера, в третьем театре выступала, например, в роли проститутки.