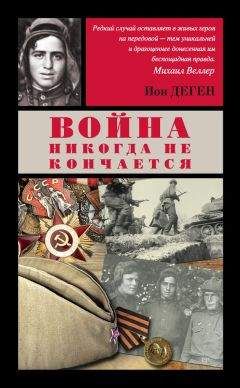Идущий за мной Митя Гуркин радостно шепнул: – Глянь, генерал идет, елки зеленые! Через плац навстречу нам медленно шел начальник училища. Через секунду его увидели все, кроме ослепленного бешенством Кирюши.
И песня, радостная, безудержная, разухабистая рванулась над ротой.
– Жила была бабушка
Край местечка.
Дурачась, мы как-то в строю запели эту песню, зная, что нас не услышит начальство. Но сейчас! При генерале! И, честное слово, даже под пыткой я бы не мог назвать зачинщика. Не было его. Песня взорвалась в недрах роты.
Захотелось бабушке
Искупаться в речке.
В безобидные и бессмысленные слова рота умудрилась вложить неописуемое похабство. Какой-то шальной подспудный смысл вырывался из внешне вполне благопристойных слов.
Бабушка купила Целый пуд мочала. Эта песня хороша, Начинай сначала.
Без команды, приноравливаясь к ритму песни, рота замедлила шаг. Движения сделались залихватскими и расслабленными.
Жила-была бабушка…
Черт его знает, чья это была идея. Но она была изумительна своей абсолютной пробивной силой. Генерал любил нашу роту, – первый в училище набор фронтовиков, и, как это ни странно в танковых войсках, не терпел пошлости.
Старшина заметил начальника училища в тот момент, когда генерал посмотрел на часы. Девять часов, тридцать пять минут.
– Атставить песню! На багровом лице Кирюши появились белые пятна.
Рота оборвала песню на полуслове. – Ирррна! Равнение наа лева! Трах-тах, трах-тах. Синхронные удары сапог по плитам тротуара. Красота! Триумф победителей. Я весь старание и восторг. Всего себя я вложил в строевой шаг. Я частица существа, состоявшего еще из ста двадцати трех таких же ликующих старательных и умелых курсантов.
– Таарищ енерал-майор танковых войск, одиннадцатая рота третьего тальона вверенного вам училища направляется на завтрак. Докладывает старшина роты старшина Градиленко.
Генерал внимательно осмотрел Кирюшу. – Здравствуйте, товарищи танкисты! – Здравь!!!
– Вольно! Старшина, ко мне. Старший сержант Рева, ведите роту в столовую.
Это был не завтрак, а пир. Веселью и шуткам не было предела. Даже осточертевший плов, обильно заправленный хлопковым маслом, казался самым утонченным и изысканным блюдом.
Мы уже допивали чай, когда в столовой появился Кирюша. Таким мы его еще не видели. Он сразу слинял и осунулся. Болезненную землистость его лица никто сейчас не принял бы за смуглость.
Кончился завтрак. Как школьники, мы радовались тому, что пропущен час занятий, что случилось это по вине Кирюши и вряд ли за такой проступок он останется не наказанным.
Градиленко не спешил строить роту. Нам показалось, что он вообще безучастно относится к тому, построимся ли мы, или толпой завалимся в казарму. Он ежился под нашими взглядами. Чего только не было в них – злорадство, насмешка, любопытство.
Прошло еще несколько минут. И наконец, Кирюша обратился к стоявшему рядом старшему сержанту:
– Рева… давай это… строй роту… Каждое слово, каждый звук рождались в муках. Вот когда я впервые узнал, как вынужденно отрекаются от власти самодержцы.
На тротуаре у входа в казарму нас ждали офицеры – ротный и пять командиров взводов.
Командир роты, высокий худой капитан Федин принял доклад Ревы. С трудом скрывая раздражение, – только что генерал снимал с него стружку, – капитан скомандовал:
– Старшина Градиленко, выйти из строя! Кирюша вышел и повернулся лицом к роте. Испуганные маленькие глазки беспокойно шарили по фронту строя. Возможно, глядя на нас, он вспоминал причиненные нам гадости. И если вспоминал, то отнюдь не раскаиваясь, а прикидывая, какое уготовано ему возмездие. Зная нас еще по фронту, он правильно предполагал, что мы – не ангелы, и христианского всепрощения ему от нас не дождаться.
Плох был Кирюша. Он стоял, вобрав голову в плечи. Шея совсем исчезла. Целлулоидный подворотничок врезался в подбородок. Ремень был еще ниже, чем обычно. Непонятно, почему даже портупея не могла удержать этот злополучный ремень. Но самое главное – сапоги.
Становясь в строй, Кирюша не смахнул суконкой пыль со своих сапог. Впервые он не позаботился об этом.
Промах Кирюши был непростителен. Сапоги больше не сверкали, не ослепляли. Исчезла их магическая сила. Выяснилось, что это обычные кирзовые сапоги.
Вероятно, офицеры роты сегодня впервые увидели старшину Градиленко не в сиянии, излучаемом сапогами.
И, глядя с презрением на сникшего Кирюшу (а может это был гнев, вызванный генеральским втыком), капитан Федин сказал:
– Старшину Градиленко с должности старшины роты снять. За нарушение учебного процесса – пять суток гауптвахты. Стать в строй. Командирам взводов развести подразделения на занятия.
Вот и все. Вот так сто двадцать четыре курсанта одновременно почувствовали себя счастливыми людьми. И никакой «коллективки».
1956 г.
В Чирчике, небольшом узбекском городе, уживались три военных училища: авиационное, пехотное и танковое. По инерции, матери штампа, я чуть не написал «мирно уживались». Но, вспомнив взаимоотношения курсантов авиационного и танкового училища, вовремя остановился. Остановился и подумал, уживались ли? Ведь слово «уживаться» трактуется как налаживание согласности жизни. Даже пытаясь изобразить взаимоотношение авиационного и танкового училищ в лучших традициях социалистического реализма, термин «уживались» был бы неприемлем. Правда, словари дают и другое определение слову «уживались» – привыкание к новому месту. Не знаю, как авиационное, но Первое Харьковское танковое училище действительно привыкало к новому месту, к Чирчику. Наша одиннадцатая рота третьего батальона стала первым набором фронтовиков. Из ста двадцати пяти курсантов не фронтовиками были человек пять или шесть. До нас, как и в авиационном училище, все курсанты призывались из гражданки. Может быть, именно этим объяснялась агрессивность фронтовиков, которую они еще не успели выплеснуть в бою.
Я почему-то уверен, что в хромосомах человека гнездится ген агрессивности. Если ученые посчитают, что это бред сивой кобылы, пусть они объяснят мне, что заставило меня десяти-одиннадцатилетнего пацана стать членом боевой дружины, которая воевала с такой же командой соседней улицы. Причем война эта не походила на игру. Нашим оружием были палки, рогатки и вполне увесистые камни. А боевые потери приходилось залечивать не только амбулаторно, иногда даже стационарно, в больнице. Пусть объяснят мне ученые, какая побудительная причина этих сражений. Что я потерял на соседней улице? Какую территорию я пытался завоевать? На какие трофеи я надеялся? Какую самку я старался покорить? Мне могут сказать, что хотя у меня в ту пору еще не проснулся половой инстинкт, он все же был заложен. Согласен. Но зачем мне нужен был этот инстинкт, если на соседней улице я к тому времени еще не заметил ни одной достойной самки? Нет, что ни говорите, но ген агрессивности время от времени, безусловно, предопределяет наше поведение.