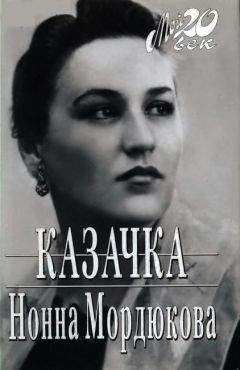…Немцы ушли — и жизнь потопила моментально, как камень в нефти, пережитое. Люди приступили к освоению следующей жизненной программы, то есть без немцев, с потерями, но по-прежнему, по-нашему, со своими.
Пахать! Сеять! Нагоняй давать за невыход на работу. Замуж выходить, жениться, на собрания ходить, отчеты писать — всё как прежде.
Приходит раз мама с работы и заявляет:
— Поедешь, дочка, в Армавир, на толкучке купишь часы, ручные, конечно.
— Как?!
— С дядей Павой.
— Мамочка! — кидаюсь я к ней в объятия.
Никак не ожидала, что так скоро исполнится желание.
Я как-то рассказала ей, какую красоту видела у Маруси Даниленко.
Рука чистая, вымытая, а на ней — цок-цок — живут часики с гаечкой, чтоб заводить их. Мне бы дорого стоило, чтобы суметь объяснить читателю суть обогащения простого человека, когда он приобретает давно желанную вещь.
К примеру, шифоньерка вполне восполнила собой поэзию нашего «шереметевского дворца» на долгие годы. Мы были обладателями шифоньерки, а это факел понимания красоты и вкуса, предмет уюта и гордости. Когда маме дали комнату в Ейске, она, перед тем как ехать, достала несколько метров марли. Помню, завезла нас мама в Ейск, попадали все от усталости, улеглись спать. Но я не сплю: манит новый, неизвестный город! Занавески мама сшила вечером да в два часа ночи тоже свалилась. «И почему шила сейчас же?» — думала я. Еще узлы не развязаны и лошади храпят во дворе перед тем как возвращаться им назад. А сама, пока все спали, и повесила занавески на окна. Это было так шикарно!
— Доченька! — подняла голову мама. — Ты уже не спишь?
И видит: висят занавески — и так в комнате красиво, так дымно и мягко.
На рассвете мама принесла горшок с китайской розой с базара: чем «ночней», тем дешевле там цены. Розу поставили в угол, где она, как девушка, вздрагивала от вечного постукивания работающей рядом электростанции.
Словом, началась для нас устроенная и, как нам казалось, счастливая жизнь.
Утром рано по понедельникам мама уезжала в Старощербиновскую выполнять свои обязанности председателя, а в воскресенье, уже к вечеру, возвращалась домой.
К маминому приезду я обычно искупаю детей, уложу на кровать, укрою общим одеялом, выстираю их бельишко, прополощу, повешу во дворе сушиться — и на танцы с морячками в кинотеатр «Звездочка».
Но бывали «трагические» дни, когда только развезу лужи по полу, как заходят знакомые моряки, зовут на танцы. Мне неудобно им отказывать, потому что у них увольнение. Кладу в танце руку на плечо партнеру, а сама слепну от страха и предчувствия: приедет мама, и ее радость встречи с нами будет омрачена — дети не мыты, полы грязные. Слава богу, каша кукурузная, по моим расчетам, допрела. Танец не в танец. Иду домой, плетется морячок рядом. И какой бы он ни был, я не хочу с ним стоять при луне. Мама приехала уставшая, а тут сиротский дом.
— Мама, — тихо говорю я, хотя пахнущий глаженым матросик не желает отпускать. Он хоть и сам не знает, что ему нужно, но увольнение-то не «дорасходовано».
— Кто там? — ехидно спрашивает мама.
— Я.
— А, ты! По химии двойка, а ты с морячками гуляешь. Иди туда, где была.
Но я слышу, что засов открывается. Никаких поцелуев, никаких обещаний о встрече в следующее увольнение. Морячок стучит кожаными каблуками, а я вхожу в дом, как несчастная Козетта, потеряв самое главное — любовь мамы.
Я и теперь встречаю таких мам, порою не очень образованных, что называется от сохи, но от природы унаследовавших дар воспитания, дар влюбить в себя, вечно осчастливливать своим присутствием своих детей.
Наша мама ухитрилась посветить нам и людям, как солнышко, побегать по полям, научить всех играть на гитаре и петь, выступить как надо на любом собрании и ушла из жизни в пятьдесят лет от такой мучительной болезни, как рак. Сделала столько добра и своим детям, и вообще людям и так рано умерла.
Три с половиной месяца сидели мы возле нее. Плакать было нельзя: мы, что греха таить, обманывали ее. Я наделала самодельных порошков штук сто — сахарная пудра, сода, лимонная кислота… И она точно по часам пила это «лекарство» три раза в день. Потом так же микстуру — пузырек за пузырьком.
Однажды после очередного обезболивающего укола она успокоилась, испарина покрыла ее изможденное лицо.
— Нонна, сшей мне тапочки, — с улыбкой сказала она.
— Ты что, мама?
— Сшей, доченька, я их должна увидеть.
— И не подумаю! — И зарыдала.
А когда мама начала терять сознание, впадать в забытье, я наклонилась и осторожно надела сшитую мной тапочку на ее ногу. Вдруг она открыла глаза и, слабо улыбаясь, проговорила:
— Вот, доченька, маме на смерть ты и сшила.
Долго потом она была в забытьи, к вечеру стала хрипеть, но все же успела выдохнуть: «Не плачьте…»
Думали — конец. Внезапно мама подняла веки и так повелительно посмотрела на меня. Я все поняла: мама приказала мне быть за старшую. Я выполнила ее наказ. Мы с братом выполнили то, что она хотела: «Доведите всех до ума». О себе не стану говорить, но все мои братья и сестры — настоящие трудяги, кто в каком деле, всюду только на «отлично» работают. Это мамино наследие…
Так вот, возвращаюсь к часикам. Этим в то время венчалось полное обеспечение молодой, начинающей ходить на танцы девушки. А то, что тапочки перед каждым походом на танцы зашивались собственноручно проволокой, что кофточки брались друг у друга взаймы, — это не главное. Вот часики на руку…
Грузим мы мешок пшеницы на арбу и мешок овса (это дяди Павино добро) и отправляемся на толкучку. Мама пустила слезу, как полагается, а я не могу заплакать.
Быки, презрев людские понукания, глубоко наплевав на них, мотают рогами и переступают копытами так, как им нужно. До Армавира от станицы Отрадной шестьдесят километров, а они идут в день пятнадцать. Значит, ночевок много по пути — четыре. Надо знать где, и искать, да и расплачиваться надо.
Махали, махали бычьи головы в первый день, пока не настала ночь. Вижу, дядя Пава останавливает быков у какого-то двора.
— Мару-у-ся! Открывай!
Маруся, вроде бы недовольная, ворота все же открывает. Мы ставим быков на покой, снимаем ярмо и суем им под морды соломки. Под грушей керосиновая лампа, бутылка, закуска. Ужинаем и ложимся спать. Мне постелено на земляном полу. Падаю и крепко засыпаю. Среди ночи собачка деликатно ложится у меня в ногах.
Утром царский завтрак: штук тридцать вареных яиц и хлеб. Сейчас говорят: яйца вредно есть, а мы с дядей Павой тогда по шесть штук съели и поехали. Маруся закрывала ворота уже довольная.