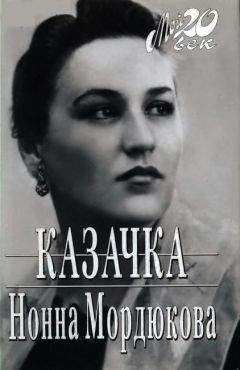Дядя Пава быками правит, а я опять разглядываю наши небогатые кубанские степи. Перед вечером увидали колодец, такой шикарный, с обработанными цементом краями. Напоили быков — и снова в путь.
Ночь. Опять быки уверенно, как у собственного дома, останавливаются у чьих-то ворот.
— Ты, Павел?
— Я.
— Сказала ж тебе, чтоб не ездил больше!
— Открывай, открывай…
Дядя Пава улыбнулся и подмигнул мне. Мы въехали во двор. Распрягли быков, смотрю, а стол под деревом пустой. Хозяйка, тряхнув головой, скрылась в доме. Дядя Пава сел за стол, положил коробочку с махоркой, стал крутить цигарку.
— Неси, Нонна, наши харчи.
Приношу. Вдруг выходит разъяренная хозяйка, берет ведро и в него ссыпает все наше.
— Не бойтесь, ведро чистое. Заберете все потом обратно. — И стелет белую скатерть.
— Уж раз с молодкой катаешься, надо все как следовает быть.
Красивая казачка бегала туда-сюда, стол ставя, а я все вникала в смысл ее упреков. Дело в том, что дядя Пава когда-то обещал ей бросить жену и переехать жить к ней.
— Видишь, Нонна, как они все замуж хотят?
Неожиданно хозяйка влепила дяде Паве пощечину и ушла.
Тот провел рукой по лицу. Хозяйка больше не вышла. Мы поели, дядя Пава определил меня в гамак, а сам лег в подводу, принеся из хаты разного барахла.
Еще одна ночь. Ночевать негде. Ставим подводу под чей-то сарай. Стена саманная, прогретая солнцем за день, отдает нам свое тепло. Мы кладем какое-то тряпье и ложимся с дядей Павой рядом. Он лежит на спине, смотрит на звезды и уже сквозь сон едва проговаривает:
— Не бойся… Не бойся жить. Люди есть и плохие.
— Я не боюсь, — успокаиваю его. — Лишь бы рядом люди были хорошие.
— О! Они ж не всегда будут с тобою рядом…
Въезжаем в Армавир. Как все подвижно! Один базар чего стоит. Много вещей, оставшихся от немцев, продается: и с блестками, и с перьями. И фрау полно, убежать со своими немчиками не успевших: торгуют себе — и никто им ничего. Дядя Пава подрулил к какому-то дядьке, зерно ссыпал мое и свое и, блаженно улыбнувшись, обнял меня за плечи:
— Ну, теперь пошли.
— А быки?
— Он все сделает, я ему дам на бутылку.
И мы, такие счастливые, держим в потных руках гроши и идем сначала в часовой ряд. Глаза у нас растопырились, и тут дядя Пава дал слабака:
— Нонка, не понимаю я в них. Накажи меня Господь, если посоветую не то…
Я удивилась такой «темноте»: да вот же они, часики, красивые какие! Бери какие хочешь. И я схватила первые — понравилась форма. Поднесла к уху и сказала:
— Давайте!
Дядя Пава хотел как-то образумить меня, чтоб не торопилась. Куда там! Я уже надевала часики на руку, счастливая вдвойне: еще оставались деньги. Потом пошли в ряд теплых стеганых одеял. Дядя Пава купил одно, не знаю, жене или матери. Мне показалось, что матери.
— Пойдем к моей жене, пообедаем, — предложил он.
Приезжаем на нашей телеге: дома никого нет. Он ловко под крылечком нашел ключ и открыл дом. Только вошли, как вдруг из-за печки выскочила овчарка — и на нас.
— Ой! — крикнула я.
— Пшел вон! — Дядя Пава пинком отшвырнул пса в сенцы.
Тот почему-то послушался его, хотя приобретен, видать, был без него. Скоро пришла хозяйка.
— О, о! — расставляя продукты, заокала она. — Я вижу: быки… Есть будете?
— Еще как!
Поужинали и легли спать. И быки наши заснули. А жена, чувствую, недовольна, что я легла на диване, а дядя Пава на полу в той же комнате.
В ночь мы выехали назад, бодрые, веселые. Отдыхали днем в тени: и нам хорошо, и быкам. Только на последней точке опять открыла нам ворота Мария, в крепдешиновом платье и с шалью на плечах. Я с собачкой снова в сенцах, а они в хате…
Пускай! У меня ведь теперь был новый друг — швейцарские часики, живые, чистенькие, блескучие да еще бурчат: тик-так, тик-так…
Есть еще один эпизод, связанный с войной, который поведал мне родной брат.
Демобилизованные всё ехали и ехали в паршивеньких, старых вагонах, а вместе с ними и штатские по своим делам. Мечется народ, лучшего места ищет, своих ищет, домой возвращается. И вот едут люди в одном купе, притерлись уже за долгую дорогу. И харчами делятся, и тары-бары общие ведут. А тут один, с выпученными глазами, вещает так, аж слюна брызжет, вены вздулись на висках. И оттого, что молча слушают его, он еще больше распаляется. А дело в том, что на руке у него были американские часы. Он снял их и стал и так и эдак вертеть перед лицами сидящих.
— О! Видели? Машина! А-ме-ри-ка! От смотрите: сейчас брошу об пол — и ничего. Как тикали, так и будут тикать.
Он бросил часы на пол, поднял и стал обносить людей, как святыню, каждому к уху прикладывая часы.
— Ну?! Идут?
— Идут, — с улыбкой, несмело отвечали пассажиры.
— Потому что аме-ри-канские! Америка — это сила. А что наша матушка Россия? Ничто! За что хоть воевали, знаете?
Люди в купе стали робко подниматься, не умея поначалу постоять за себя. А из уст обалдуя уже чистоганом лились оскорбления всему настрадавшемуся народу.
И вдруг с виду нерешительный солдат лет сорока расстегивает в сердцах карман, достает оттуда мужские часы довоенного производства, отечественные.
— А вот это видал?! — Он поднес часы к роже пропагандиста американских часов и, размахнувшись, шмякнул ими об пол.
Какая-то сила помогла солдату: когда он поднес их к уху провокатора и спросил: «Идут?» Тот ответил изумленно: «Идут».
— Идут? — спросил он еще у двоих, поднеся и к ним часы.
— Идут!
— Идут!
Потом солдат поднес часы к своему уху и изменился в лице: часы, видно, молчали.
— Во-от! — сказал он как ни в чем не бывало. — И нечего тебе тут орать. Ишь разошелся, антихрист! Ты сам-то кто: американец или русский?! — Он гордо и деловито застегнулся на все пуговицы. — Ишь умник нашелся! — все больше волнуясь, проговорил он.
— Ну-ка, ну-ка, дай послушать еще, — попросил возмутитель спокойствия.
— А это в другой раз, покурить охота.
Солдат вышел в тамбур, долго курил там и, как только поезд остановился, был таков. Рюкзак его с нехитрыми пожитками и харчишками так и остался на сиденье — уж как он до дому добрался, неизвестно.
Еще учась в школе, заразилась мечтой пойти туда, где делают волшебные произведения — кинофильмы.
Просмотры фильмов происходили у нас в скромных условиях: хатка под камышовой крышей, проекционный аппарат стоит тут же, среди зрителей. Не надо еще забывать главного человека этих киносеансов — деда с бородой, который химичил с движком. «Пу-пу-пу-пу-у», — на высоких тонах разносилось от движка на всю станицу. Бывали случаи, когда на экране движения актеров становились сомнамбулическими, женский голос мужским, и в конце концов жизнь на экране полностью замирала, он становился просто саваном, и пацанва высыпала наружу, обступая колесо движка, где дед с бородой на пучочек серой ваты лил керосин. Дальше технология его починки была для нас путаной и недоступной, мы мигом неслись на свои места, чтобы с появлением треска «пу-пу-пу-пу-у» позабавиться над тем, как замершие на экране актрисы с мужскими голосами сперва начинают шевелиться, потом голоса их повышаются до женских и движения становятся естественными. Пошло.