Вот почему я считаю, что букет векторов (повторяю: интенсивность поглощения партией, целеустремленность в работе над проблемами, плотность игры и поиск гармонии), которые слитным усилием вначале подняли меня в шахматной игре над моими друзьями детства, а потом вынесли на шахматный трон, – это всего лишь норма.
Нормально, когда человек много работает.
Нормально, когда он вкладывает в работу душу.
Нормально, когда он старается внести в работу необычность, небывалость, непредсказуемость, без чего и нет ни Творчества, ни Игры, между которыми – когда они с прописной буквы – я с удовольствием ставлю знак равенства.
Нормально, когда критерием творчества служит идеал.
Но! – как сказано в Святом Писании – много званых, да мало призванных.
Как же долог путь, который мне только еще предстоит пройти!.. Сколь он щедр на тупики, на испытания, на искушения… если бы знать наперед…
У игроков в преферанс есть поговорка: если знать, что лежит в прикупе, можно не ходить на службу. Не знаю, не знаю… по крайней мере, за себя ручаюсь: я бы так не смог. Скучно. (Если позволите, я не буду говорить о моральной стороне, ее, я уверен, мы оцениваем одинаково.) Уходит смысл. Остается ощущение бездарно прожитых дней. И ведь эту пустоту уже ничем не заполнишь: пустоту можно заполнять только сегодняшнюю, а вчерашняя остается зияющей в душе раной навсегда…
Нет, я бы наверняка так не смог. Я бы чем-нибудь другим занялся, – уж как-нибудь бы да придумал! – чтобы было напряжение, чтобы дух захватывало, – пан или пропал! – чтобы каждой клеточкой тела ощущать: живу! Живу! Но я забежал вперед.
А пока я, маленький и тщедушный, стою на коленях на стуле. Передо мной на углу стола шахматная доска. Напротив – отец. Он чуть откинулся на своем стуле, так что его лицо кажется загорелым в рябой тени от бахромы красного шелкового абажура, который парит над нами царственным балдахином. На доске очередной разгром. Остатки моей армии, разбросанные по полям, уже невозможно соединить ни хитростью, ни силой – нет времени, нет для этого ходов.
– Через два хода тебе мат, – говорит отец.
Я это вижу. Я уже настолько разбираюсь в шахматах, что кроме своих ходов, могу предвидеть и ходы отца. Чаще один-два, но иногда – прослеживая очевидную логику какого-то резкого его хода – я угадываю (или предполагаю) целую серию. И это меня захватывает необычайно.
Я вижу, что мне через два хода мат, вижу, что спасения нет, и начинаю плакать. Я это делаю не совсем специально: я уже знаю, что от слез становится легче на душе; но и отца можно разжалобить – в следующей партии он либо поддастся, либо так построит игру, что партия закончится миром в связи с полным истреблением обеих армий.
Я заранее знаю ласковое выражение его лица и глаз, и слова утешения, которые он произнесет, и прикосновение руки, треплющей меня по волосам. Но сегодня ничего этого нет. Что случилось?
Отчего отец не смеется и не тянется ко мне своею ласковой рукой? Отчего его глаза так холодны и жестки?
– Вот что, сынок, – говорит он подчеркнуто четко, – запомни: еще раз заревешь, – никогда больше не сяду играть с тобой.
У нас дома ничего не повторяют дважды.
Мои слезы высыхают. Мои последние в жизни шахматные слезы.
Так ко мне приходит познание одного из важнейших законов игры: угроза страшнее исполнения.
КОММЕНТАРИЙ И. АКИМОВА
Здесь я хочу продолжить свою мысль о том, что, будучи болезненным ребенком, Карпов волей неволей вынужден был накапливать впечатления. Эта тяга к накоплению выражалась и материально. Например, в коллекционировании. Но главное – в шахматах. В шахматах это более чем убедительно. Я уже не говорю, что ему здесь принадлежат все мыслимые рекорды; но он продолжает накапливать количество победных турниров, словно хочет сделать недостижимыми свои рекорды даже в самом отдаленном будущем.
Возьмем типичную карповскую шахматную партию. Самое в ней характерное – накопление мелких преимуществ. Шахматисты помнят слова Нимцовича: «Позиционная игра характеризуется не нападением или защитой, но только мерами, направленными на упрочение положения». Здесь – весь Карпов. Для него даже гармония – это нечто накопляемое. Его позиция – это накопить преимущества, большинство которых видит и знает только он. Именно поэтому он не пойдет на позицию другого типа, пока не будет уверен, что она не окажется более гармоничной.
Конечно, можно углубить эту мысль. Можно предположить, что Карпов, хранящий в подсознании память о смерти, о путешествии туда, живет с особо обостренным чувством неустойчивости бытия, с постоянной потребностью бесконечного увеличения этой устойчивости, то есть гармонии. Но развитие этой мысли в комментарии увело бы нас слишком далеко от шахмат, и поэтому мы ограничимся здесь лишь ее формулированием. Однако теперь, когда мы знаем, что Карпов поменял свое отношение к проблеме здоровья, особенно интересно будет узнать, сможет ли он перевести свой организм на иной режим. Тот режим, который был заложен в него природой до супершока. Но об этом мы сможем судить только по его спортивным результатам.
Первой шахматной территорией, которую я покорил, был наш двор.
Порядки в нем были куда демократичней игровой строгости, к которой приучал меня отец (именно к строгости, слово «дисциплина» здесь не дотягивает: в нем есть порядок, но нет ответственности, которую – при всем своем педантизме – отец ставил выше). Разумеется, здесь тоже была своя иерархия, но не выше ее была атмосфера братства людей, объединенных любовью к шахматам.
Мне не нужно было просить: «пропустите меня к столику, я тоже хочу смотреть». Мне и без того освобождали место, но часто просто брали на руки, чтобы я мог наблюдать игру с комфортом.
Мне не нужно было сдерживаться, если подсказка сама соскальзывала с языка, поскольку, повторяю, здесь торжествовала демократия: «Шахматы – коллективная игра!»
Мне не нужно было ни унижаться, ни ловчить, чтобы эти люди приняли меня в игру. Займи очередь – и все! И когда придет твой черед – садись на место выбывшего и показывай все, что умеешь. Хоть в три хода проиграй, хоть всех подряд обыгрывай – твоя судьба в твоих руках.
Я не сразу включился в игру – не хотелось проигрывать. Если даже с отцом я переносил это болезненно, так ведь отец – это отец, это часть меня; он как бы не имел возраста, а его размеры только воодушевляли меня; в поражениях от отца не было стыда. А в шахматной компании даже мальчишки были вдвое меня старше, про взрослых и не говорю. Я вертелся где-то на уровне их ног. Не желая того, они меня подавляли.
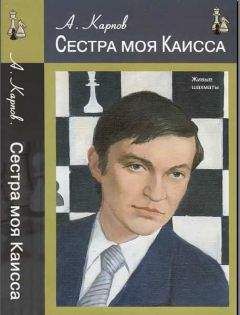
![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](https://cdn.my-library.info/books/91028/91028.jpg)



