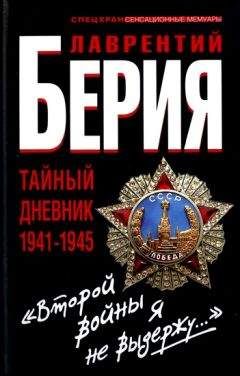Вероятно, на моём лице было выражено моё состояние.
Ко мне подошёл один из членов комиссии и спросил, не помочь ли мне встать.
Я бессмысленно повторяла: «Спасибо, спасибо, спасибо…»
Меня охватил страшный нервный озноб, я тряслась как в лихорадке.
Помню, как депутат меня вывел из комнаты под руку, а остальные мне в спину кричали: «Др свидания, будьте счастливы!».
Когда я очутилась на улице, ко мне бросилось очень много мужчин-заключённых. Кто-то мне в рот вложил уже зажжённую сигарету, я слышала много голосов, что-то мне говорили, но в ушах стоял страшный звон. Я спросила: «Когда тот бедняга умер от инфаркта, у него тоже была тяжесть в ногах, как у меня?». И кто-то мне ответил, что бедняга не успел им об этом сказать.
Меня усадили на траву, принесли воды, кто-то смачивал мои волосы, — всё это я отлично помню, но это было, как в дымке, как под завесой тумана.
Как и многое, пережитое мной до сих пор, я и это одолела. Взяла себя в руки, попрощалась с мужчинами, и мы с надзирательницей отправились обратно.
Мне запомнилось, что по дороге в мужской лагерь я видела маленькую почту, и мне пришла в голову мысль дать телеграмму домой.
Я во весь дух пустилась бежать к почте.
Надзирательница что-то кричала мне вслед и бежала за мной, не понимая, что я задумала.
Я бежала, как сумасшедшая, прямо на почту.
Я схватила бланк, попыталась что-то написать, ничего не получилось, руки тряслись, слёзы душили, я испортила три бланка, и наконец девушка, работающая на почте, мне предложила написать, что я хочу.
Я ей продиктовала только адрес и сказала, что я реабилитирована.
Текст телеграммы она сама составила.
И только тут я вспомнила, что у меня ведь нет денег на телеграмму, но милая девушка сказала, что заплатит за меня, что телеграмма сегодня же будет доставлена.
Я поцеловала эту добрую девушку и выбежала с почты.
У самых дверей стоял автомобиль, в нём сидел Юрлов и надзирательница стояла возле него.
Юрлов по телефону узнал, что меня реабилитировали и немедленно выехал мне навстречу.
Были же среди лагерного начальства и такие, как Юрлов!..
Выйдя из машины Юрлова, я попала в объятия плачущей Наташи.
Последние сутки в лагере казались мне бесконечными и стали для меня незабываемыми.
Мне было тяжело оставлять Наташу одну (Наташа приехала в Москву через месяц после меня и из Москвы уехала к себе во Владивосток).
Мне казалось, что конца этой ночи не будет. Я выходила на улицу и беспрерывно смотрела на часы. Мне казалось, что все часы в мире остановились.
Итак я оставляла лагерь, где я оставила лучшие десять лет в моей жизни, оставила здоровье, а главное веру в людей.
От тридцати до сорока лет я провела в тюрьмах, в холоде, в голоде, в безумных мучительных унижениях и страданиях.
Кто виноват? Кто ответит? Кто понесёт за это ответственность? наказание?
Все эти вопросы повисли в воздухе, и я, надломленная, усталая, опустошённая, села в поезд, набитый освобождёнными мужчинами из лагерного пункта № 7.
Сидя в углу вагона, не знаю почему, я не думала о предстоящей встрече с семьёй, не думала, как сложится моя дальнейшая жизнь.
Все мои мысли были о том, что надо сделать всё возможное и даже невозможное, чтоб уехать из этой страны, рассказать всему миру, что может пережить ни в чём неповинный человек, что невозможно об этом молчать, невозможно это забыть, тем более простить.
Уехать! только бы уехать из этой одичалой, бесчеловечной страны!
С этими мыслями я и вышла из вагона на Северном вокзале в Москве.
Эшелон, прибывший из Потьмы, был только с освобождёнными, «посторонних» не было.
Из всех вагонов высыпали люди, бледные, измождённые, худые, с грустными глазами, с жалкими попытками улыбаться.
На платформе встречающих было больше, чем приехавших. Разумеется не только одни москвичи приехали, но в любой город Советского Союза путь лежал через Москву, и родственники бывших заключённых прибыли сюда со всех концов страны.
На каждом приехавшем повисло по нескольку человек. Окружённые родными и близкими, люди стояли неподвижно, как будто застыли в своих мыслях о пережитом, и сердце разрывалось от жалости, глядя как никто не умел улыбаться и радоваться своему возвращению. Печать горя и обиды была на лицах людей, прибывших буквально с того света.
Я целиком была поглощена рассматриванием этих картин, в ушах звенели голоса: «Сыночек! Мамочка! Коля! Петя! Наташа!». Это восклицали люди на платформе.
Совсем для меня незаметно ко мне подошёл мой муж, моя сестра с мужем, мой брат с женой, но моей мамы, дорогого лица моей мамы я среди них не увидела.
Я сразу всё поняла.
Ноги мои подкосились.
Моя мама, которая была бессмертной для меня, умерла без меня.
Парализованная, она лежала и одним пальцем писала в воздухе: «Любаша».
Теперь её больше нет.
Никогда я не увижу её…
Совершенно неожиданно для меня я увидела моих детей. Элегантные, повзрослевшие, они меня очень серьёзно рассматривали.
Уже с первых поцелуев я поняла, что это не те нежные, любящие, воспитанные дети, которых я оставила.
Я не ошиблась.
Это были три взрослых человека, воспитанные без меня, совершенно чужие мне по духу, по понятиям.
Я не могла простить моему мужу, что воспитание детей было отдано советской власти, которая сделала их чужими для меня.
Наши семейные отношения не устроились.
Слишком по-разному мы прожили последние десять лет.
Я была одинока в своём собственном доме, в своей семье.
Меня или не хотели понять или не могли.
В том и в другом случае я была несчастна — и дальнейшее пребывание в моей семье я сочла бессмысленным.
Мне нужно было участие, сочувствие, доброта, я не могла перенести вопросов моего мужа и детей: «Неужели в самом деле можно десять лет сидеть в лагере ни за что?»
Даже МГБ это поняло, а они этого не понимали.
Вот так моя надежда на возвращение в семью, домой, надежда, которой я столько лет жила, меня жестоко обманула…
И я ушла из дома, где каждый миг я чувствовала, что всё мне чужое.
Три года я скиталась без жилья, без денег, без работы. Три года я скрывалась от милиции, как преступница, потому, что мой паспорт не был прописан. Три года я не знала утром, где буду ночевать.
Единственная душа, которая могла бы меня понять, — моя мама, — была в могиле, а к другим я не обращалась, и никто не знал из моей семьи, в каком я положении.
Я бродила по Москве, заглядывала в окна домов, всюду была жизнь, все имели свой кров, свои постели, я же была бездомная, одинокая, в неизвестном ожидании, когда же подойдёт моя очередь реабилитированной на получение жилой площади.