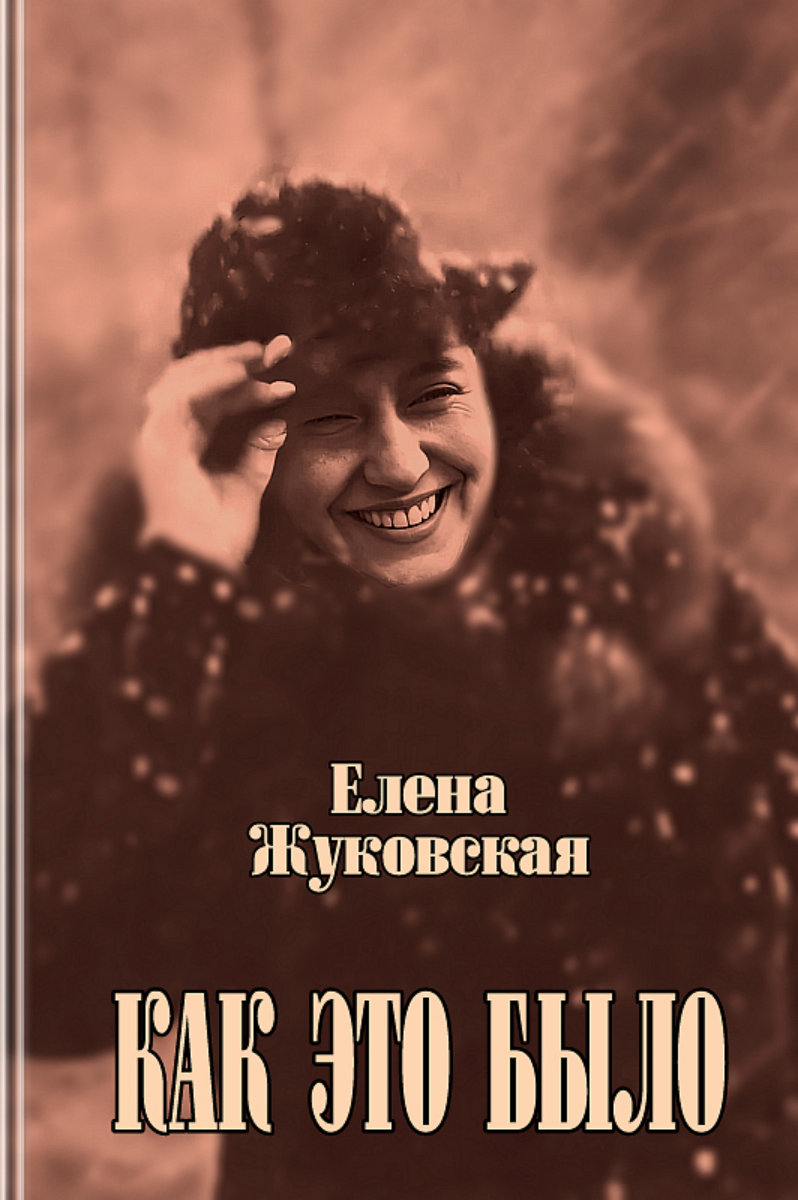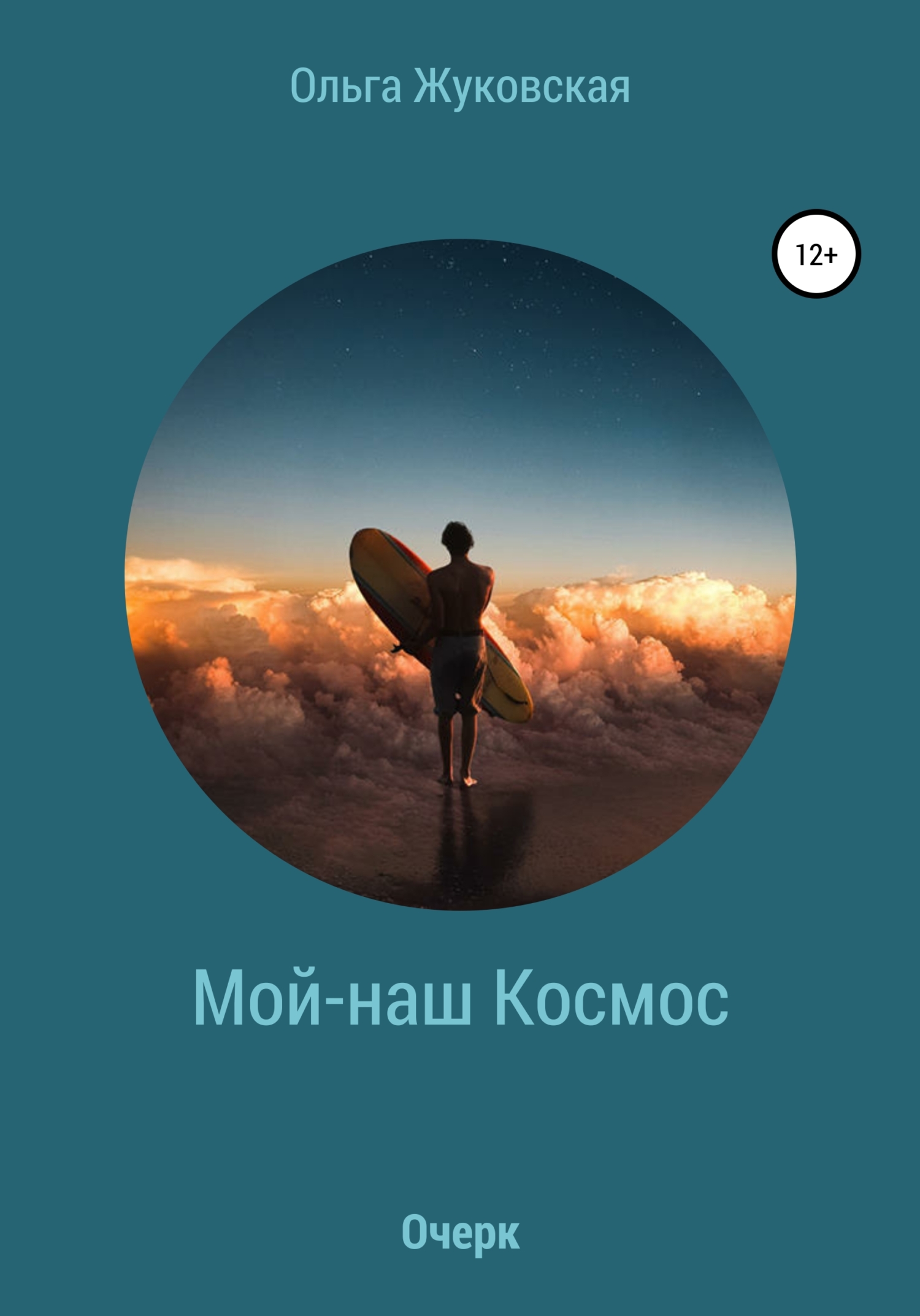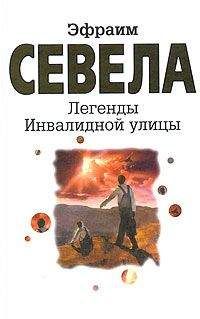карта.
Ночевали мы то в лагере, то в лесу. Я с трудом волокла свой узел с вещами. Очень страдали от гнуса, были искусаны и покрыты расчесами. Жгли костры, спасаясь дымом, были у нас и накомарники. Без них мы бы не дошли. В лесу еще не было ни ягод, ни грибов. Воду кипятили в котелке.
Финкельштейн не выдержал мучительной дороги и заболел, не мог идти дальше.
Пришлось Андрею сдать его на ближайшем лагпункте. Отправились дальше вдвоем.
Андрей, славный крестьянский паренек, относился ко мне уважительно. Одна слабость была у него: любил выпить. Как на пути замаячит где-то поселок, мой Андрей отправлялся в обитаемое место в надежде поживиться, а меня оставлял в лесу, чаще всего на берегу речушки или ручья, клал возле меня свою винтовку, мой формуляр в ящичке, шинель, фуражку и, оставаясь в рубашке, штанах и сапогах, как частное лицо шел на поиски спиртного. Я ему говорила: «Андрей, а ведь я от тебя сбегу!». «Никуда не денешься, ты не из тех, какие бегают, да и бежать тут некуда всюду тайга дремучая и болота», — отвечал он мне.
Этап продолжался около двух месяцев.
Измученные и искусанные, добрались мы до Ухты, и там я распрощалась с Андреем - он сдал меня вместе с документами.
Ухта тогда еще была не городом, а центром Ухт-Ижемлага, с несколькими лагерными пунктами, расположенными вблизи промыслов, нефтеперерабатывающим и кирпичным заводами, проектным отделом и двумя лагерными больницами: «Ветлосян» только для заключенных и «Сангородок» для заключенных, для вольных и детских учреждений.
К 40-му году это было уже достаточно обжитое место - заключенные жили не в палатках, а в бараках. Командовал здесь генерал Бурдаков, свирепый сатрап. Политические и урки содержались вместе. Режим в лагере был жестокий. А район богатейший: огромные залежи тяжелой парафинистой нефти, которая почти не содержала легких погонов, плюс газовые месторождения. Был там и радий в водах, велась его добыча, а с опасностью облучения никто не считался.
Огромная масса бесплатной рабочей силы, в том числе и высококвалифицированной, работала в этих гиблых местах за пайку хлеба и баланду. Тяжелые, долгие зимы с морозами до минус пятидесяти пяти. Страшные авитаминозы. Жестокая борьба за выживание, деградация, высокая смертность.
Первое место, куда меня направили вместе с другим химиком, Фирой Пиковской, была примитивная лаборатория кирпичного завода.
На ОЛП (отдельном лагерном пункте) «Кирпичный» содержались заключенные с большими сроками, и до нас там вовсе не было женщин. Не было, естественно, и женского барака. В углу одного из мужских бараков нам выделили фанерную кабинку без окна.
Туда втиснули две железные койки для меня и Фиры. Не описать, как нам было страшно: хилая дверца из фанеры закрывалась на проволочный самодельный крючок, сорвать который ничего не стоило, а за фанерой больше сотни мужчин. Храп, сквернословие, порой драки, - все это рядом с нами.
Положение казалось безнадежным, но вскоре выяснилось, что нас взяли под защиту и неусыпную охрану трое мужчин: ведавший нашей лабораторией инженер Палкин, Миша Ленгефер, который знал моего мужа по работе в Берлине, и замечательный украинский писатель-юморист Остап Вишня, он же Павел Михайлович Губенко.
Павел Михайлович, ровесник моего отца, отбывал двадцатилетний срок, который получил как украинский националист, он проходил по знаменитому процессу Скрыпника еще в 33-м году. Он был многоопытный «зека». В первую мировую войну он, человек мирный, не желавший никого убивать, поступил (как и мой отец в то время) на ускоренные фельдшерские курсы. Но на фронт Павел Михайлович не попал. Теперь же, попав в лагерь, он быстро понял, что юмористы здесь не нужны, и назвался фельдшером. Его медицинское образование двадцатилетней давности было, мягко говоря, неглубоким. Да и никакими лекарствами, кроме йода и марганцовки, он не располагал. Вата еще была, но упаковочная - грубая, серая. В общем, когда случалось что-то серьезное - высокая температура, скажем, или кровавый понос - Павел Михайлович не рисковал и отправлял больного в лагерную больницу на Ветлосян.
Главная же задача состояла в том, чтобы утешать людей, давать освобождение от тяжелых работ в мерзлом глиняном забое. Он был необыкновенно добр и к тому же наделен блестящим остроумием.
Никогда не забуду, как однажды Павел Михайлович принес нам в алюминиевой миске спелые красные помидоры.
- Разве тут растут помидоры? - изумилась я.
- Для вас тут все растет, - тихо ответил Павел Михайлович.
Вскоре я очутилась в больнице на Ветлосяне.
Как-то раз я заметила на сорочке на груди пятна крови. Я решила, что это последствия ушиба, который я получила в Котласе, сорвавшись с верхних нар. Павел Михайлович предложил отправить меня на Ветлосян к медицинским светилам - там действительно были профессора и врачи со всего Советского Союза.
Оформлен наряд, вызван конвой, я в больнице. Персонал сверху донизу из заключенных. Уход за больными, внимание, квалификация персонала, все это на высоте, которой могли бы позавидовать наши нынешние московские больницы. Конечно, не было необходимого оборудования, медикаментов, ужасное питание, но зато сколько внимания и заботы о каждом.
Собрали консилиум во главе с профессором Вильгельмом Владимировичем Виттенбергом.
Профессор решительно восстал против операции, которую предлагали хирурги, и забрал меня в свое отделение. Он отнесся ко мне по-отечески тепло, решил подержать какое-то время, чтобы я отдохнула от лагерной обстановки, и поместил меня рядом с женой известного в партии деятеля Адольфа Абрамовича Иоффе, близкого в свое время к Ленину, дипломата, представлявшего нашу страну в Германии, Китае, Австрии, затем в 25-м году возглавившего «новую оппозицию».
С Марией Михайловной Иоффе было о чем поговорить. В лагере на нее состряпали гнусный донос, чтобы упечь в воркутинский лагерь строгого режима. Врачи взялись за ее спасение. Доктор Каминский поставил диагноз «костный туберкулез» и объявил Марию Михайловну лежачей больной, с риском для собственной жизни спасая ее от этапа.
Когда я поступила в ветлосянскую больницу, приемщиком в каптерке работал седой, опустившийся старик. Увидев на документах мою фамилию, он поднял на меня глаза и, узнав меня, заплакал. Я же его не узнала.
А это был Александр Иванович Тодорский крупный военачальник, генерал-лейтенант, бывший начальником Военно-воздушной академии. В сороковом году ему было всего 46 лет. С моим мужем они были знакомы еще с гражданской войны, встречались и в тридцатые годы. Замечу, что Александр Иванович выжил, и после освобождения и реабилитации