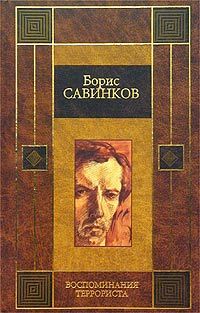Я лежу ничком в горячих подушках. Светает. Чуть брезжит утренняя заря.
Вот опять неудача. Хуже чем неудача, несчастье. Мы наголову разбиты. Фёдор сделал, конечно, что мог. Разве он пропустил карету? Разве не бросил бомбу? Разве не было взрыва?
Мне не жаль Фёдора, даже не жаль, что я не успел защитить его. Ну, я бы убил пять дворников и городовых. Разве в этом моё желанье?… Но мне жаль: я не знал, что генерал-губернатор в двух шагах от меня, в подъезде. Я бы дождался его. Я бы его убил.
Мы не уедем. Мы не сдадимся. Если нельзя убить на дороге, мы пойдём во дворец. Мы взорвём дворец, и себя и его, и всех, кто с ним. Он спокоен теперь: он торжествует победу. Нет забот, нет страха. Прочно царство его, тверда власть… Но ведь будет наш день, – будет суд. И тогда, – совершится.
Генрих мне говорит:
– Жорж, всё погибло.
Кровь заливает мне щёки.
– Молчать.
Он в испуге отступает на шаг.
– Жорж, что с вами?
– Молчать. Что за вздор. Ничто не погибло. Как вам не стыдно.
– А Фёдор?
– Что Фёдор? Фёдор убит…
– Ах, Жорж… Ведь это… Ведь это…
– Ну… Дальше.
– Нет… Вы подумайте… Нет… Но мне казалось… Что же теперь?
– Как, что теперь?
– Нас полиция ищет.
– Полиция всегда ищет.
Сеет дождь. Плачет хмурое небо. Генрих промок и с его поношенной шапки струится вода. Он похудел, глаза у него ввалились.
– Жорж.
– Что?
– Поверьте… Я… я хочу только сказать… Вот нас двое: Ваня и я… Мало двоих.
– Нас трое.
– Кто же третий?
– Я. Вы забыли меня.
– Вы возьмёте снаряд?
– Конечно.
Пауза.
– Жорж, на улице трудно.
– Что трудно?
– На улице трудно убить.
– Мы пойдём во дворец.
– Во дворец?
– Ну да. Что же вас удивляет?
– Вы надеетесь, Жорж? Я уверен… Стыдно вам, Генрих.
Он растерянно жмёт мою руку.
– Жорж, простите меня… Конечно… Но помните: если Фёдор убит, значит черёд за нами. Поняли? Да?
И он, взволнованный, шепчет:
– Да… А мне на этот раз жаль, что Фёдора нет со мною.
Я забыл зажечь свечи. В моей комнате серая полутьма. В углу зыбкий силуэт Эрны. После взрыва я отдал ей бомбы и с тех пор не видел её Она тайком прокралась сегодня ко мне и молчит. Даже не курит.
– Жорж…
– Что, Эрна?
– Это… это я виновата…
– В чём виновата?
– Что он не убит.
Голос у неё глухой и в нём сегодня нет слёз.
– Ты виновата?
– Да, я.
– Чем?
– Я делала бомбу.
– Ах, пустяки… Не мучь себя, Эрна.
– Нет, это я, это я, это я…
Я беру её руку:
– Эрна, твоей вины нет. Я тебе говорю.
– Нет?… А Фёдор?
– Что Фёдор?
– Он бы, может быть, жил…
– Эрна, ведь это скучно…
Она встаёт, делает два шага. Потом тяжело садится опять. Я говорю:
– Вот Генрих сказал, – что нужно оставить дело.
– Кто сказал?
– Генрих.
– Как оставить? Зачем?
– Спроси его, Эрна.
– Жорж, разве правда, – оставить?
– Ты так думаешь? Да?
– Нет, скажи ты. Ну, конечно же, нет. Мы, конечно, убьём. И ты опять приготовишь снаряды. Она с тревогой говорит:
– А кто третий?
– Я, Эрна.
– Ты?
– Ну да. Я.
Она поникла, прижалась к окну. Смотрит в тёмную площадь. Потом вдруг быстро встаёт, подходит ко мне. Жарко целует в губы.
– Жорж, милый… Мы, ведь, вместе умрём?… Жорж?
Снова неслышно падает ночь.
Перед нами всего два пути. Первый путь: переждать несколько дней и опять подстеречь на дороге. Второй путь: идти во дворец. Я знаю: нас ищут. Нам трудно прожить неделю в Москве, ещё труднее занять те же места. Ну, вместо Фёдора – я, Ваня опять на Тверской, Генрих опять в резерве. Полиция теперь начеку. Улицы усеяны сыщиками. Они караулят нас. Они, заподозрив бомбу, окружат, незаметно схватят. Да и поедет ли генерал-губернатор той же дорогой? Ведь ему легко сделать круг по Москве: выехать на Тверскую сверху, со стороны Страстного монастыря… Но, а если мы пойдём во дворец? Нужно оковать себя динамитом, одеть невидимый панцирь, нужно прорваться в подъезд, наконец, нужно умело взорвать. Мне, конечно, не жалко тех, кто умрёт: погибнет семья, свита, сыщики и конвой. Но опасно рискнуть. Дворец велик и в нём много комнат. Если случайно во время взрыва он будет во внутренних залах или в саду? Ведь мы не в силах дойти до него… Халтуринский взрыв был рассчитан верно и всё-таки кончился неудачей. Я колеблюсь. Я взвешиваю все «против» и «за». И я не знаю: пойдём ли мы во дворец? Трудно решить и нужно. Трудно знать и ещё труднее узнать.
Ваня барин: мягкая шляпа, светлый галстук, серый пиджак. У него по-прежнему вьются кудри, блестят задумчивые глаза. Он говорит:
– Жалко Фёдора, Жоржик.
– Да, жалко.
Он улыбается грустно:
– Да ведь тебе не Фёдора жалко.
– Как не Фёдора, Ваня?
– Ты, ведь, думаешь: товарища потерял. Ведь, так? Скажи, так?
– Конечно.
– Ты думаешь: вот жил на свете революционер, настоящий революционер, бесстрашный… А теперь его нет. И ещё думаешь: трудно, – как быть без него?
– Конечно.
– Вот видишь… А про Фёдора ты забыл. Не жаль тебе Фёдора. На бульваре играет военный оркестр. Воскресенье. В красных рубахах, с гармониками в руках бродят мастеровые. Говор и смех.
Ваня говорит:
– Слушай, я вот всё о Фёдоре думал. Для меня, ведь, он не только товарищ, не только революционер… . Ты подумай, что он чувствовал там за дровами? Стрелял и знал, каждою каплею крови знал: смерть. Сколько времени он в глаза её видел? Жоржик, не то. Я не про то. Ну, конечно, не испугался… А знаешь ли ты его муку? Знаешь ли муку, когда он раненый бился? Когда темнело в глазах и жизнь догорала? Ты не думал о нём?
И я отвечаю:
– Нет, Ваня, не думал.
Он шепчет:
– Значит, ты и его не любил… .
Тогда я говорю:
– Фёдор умер.… Ты лучше вот что скажи: идти ли нам во дворец?
– Идти во дворец?
–Да.
– Это как?
– Ну, взорвать весь дворец.
– А люди?
– Какие люди?
– Да семья его, дети.
– Вот ты о чём… Пустяки: им туда и дорога…
Ваня примолк.
– Жорж.
– Что?
– Я не согласен.
– Что не согласен?
– Идти во дворец.
– Что за вздор?… Почему? Я не согласен убивать детей.
И потом говорит, волнуясь:
– Нет, Жорж, послушай меня: не делай этого, нет. Как можешь ты это взять на себя? Кто дал тебе право? Кто позволил тебе?
Я холодно говорю:
– Я сам позволил себе.
– Ты?
– Да, я.
Он всем телом дрожит.
– Жорж, дети…
– Пусть дети.
– Жорж, а Христос?
– При чём тут Христос?
– Жорж, помнишь: «Я пришёл во имя Отца моего, и не принимаете Меня; а если иной придёт во имя своё, его примете».