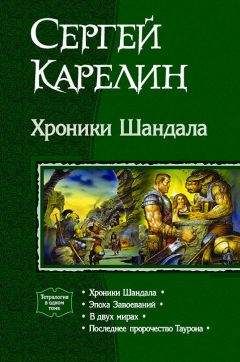27 ноября 1825 года днем в дворцовой церкви Зимнего начался молебен во здравие императора Александра. Во здравие молиться было поздно, — еще 19 ноября в 10 часов 50 минут пополуночи государь почил в бозе. Но двор оставался в неведении об этом скорбном факте. Фельдъегеря с депешами месили осеннюю грязь на пути к Варшаве — граф Дибич спешил оповестить цесаревича Константина Павловича, наследника престола, о кончине старшего брата. В рапорте Дибича, доставленном 25 ноября, Константин именовался императором.
Но живущий в Варшаве Константин царствовать не желал и строчил письма брату Николаю, убеждая его взять российскую корону, — такова была воля покойного государя.
В разгар запоздавшего дворцового молебна о продлении всеавгустейших дней Александра камердинер из-за двери подал знак Николаю; тот вышел в бывшую библиотеку, находившуюся рядом. Залу монументально мерил шагами горбоносый Милорадович. Выражение отчаяния на холеном лице кутилы и рубаки не оставляло каких-либо надежд. Однако граф не ограничился миссией вестовщика, он счел должным лично поддержать великого князя и с солдатской прямотой бухнул: «C'est fini, courage maintenant, donnez Texemple» [11].
Молебен остановили, плачущих женщин повели в их покои, при дворе наложили траур.
Но Милорадович не полагал свою миссию завершенной. Великий князь Николай явил не только желательное самообладание, но сверх того нежелательное для Милорадовича стремление к самовластию. Петербургский генерал-губернатор, одновременно главнокомандующий гвардией и других частей гарнизона, счел уместным напомнить Николаю, что тот не любим гвардией и зарываться не следовало бы. Меланхолически глядя в лепной потолок, выразился в том смысле, что у него-де, Милорадовича, в кармане шестьдесят тысяч штыков, с таким оркестром можно заказывать любую музыку…
Николай, стиснув зубы, приступил к присяге императору Константину, не догадываясь, что не далее как вчера Константин в Варшаве присягнул императору Николаю…
Началась великая чехарда, именуемая междуцарствием, братья расшаркивались в письмах друг перед другом, удерживаясь от казарменных выражений, которые вот-вот готовы были сорваться с пера.
…Северное общество воспрянуло. Петербургская «управа» располагала теми же сведениями, что и двор. Утром 27 ноября для «северян» император Александр еще лежал в Таганроге, прикованный недугом к постели, и Рылеев помышлял о положении в полках на случай вполне вероятной присяги, — царя, судя по депешам, никакими молебнами не поднять на ноги. Расторопный посыльный созывал Николая Бестужева, Торсона и Батенькова в дом у Синего моста. Рылеев и Александр Бестужев ждали их в кабинете, где еще дрожали утренние свечи. Решение приняли небывало быстро — ехать по казармам, выяснять умонастроение солдат, офицеров.
Весть о смерти императора погнала Александра Бестужева в Измайловский полк (адъютантские эполеты открывали полосатые ворота любых казарм). Полк, послушно исполняя команду, присягнул Константину.
Это, однако, не удержало заговорщиков, — надо было готовить войска для всяких непредвиденностей.
На ночь глядя в кабинет Рылеева как оглашенный ворвался Якубович — черная повязка сползла на глаза, усы торчком, длинные брови взлохмачены: «Царь умер; это вы его у меня вырвали!» Якубовича постарались остудить. Рылеев обнял его, заботливо поправил повязку и помаленьку выдворил в сени.
Следующим вечером на уголке рылеевского стола, ловя краем уха разгоряченные голоса, Бестужев писал матери, чтобы та, не мешкая, выезжала в Петербург. За этим же столом вчера вместе с Рылеевым и Николаем они тщетно трудились над прокламацией к войскам. Запутанность обстановки мешала внятному призыву. Тогда отправились по ночным улицам; останавливая солдат, открывали обман: от полков утаили завещание покойного царя, в нем — свобода крестьянам, солдатская служба укорочена до пятнадцати лет. Желанная новость наутро достигла окраинных казарм.
Бестужева и Рылеева не коробила выдумка с завещанием — агитаторский прием, не более.
Пока изготовлялись кольца с надписью: «Наш ангел на небесах», пока в витринах выставляли увитый гирляндами литографированный портрет «Константина первого, императора и самодержца всероссийского», пока чеканили монеты с курносым профилем (новый государь сильно походил на благословенного и благополучно приконченного отца), по столице катился беспокойный слух: Константин Павлович отрекается от престола в пользу нелюбимого войсками Николая.
Тайное общество опять оживилось, подогревая прежде всего недовольство гвардии. Совещания сменялись совещаниями, полки втягивались в заговор. Не стихала подготовка к выступлению, и не кончались споры вокруг него. Motto [12]«Теперь или никогда!»
Энергия и мысль Рылеева — во всех начинаниях «управы»; ее члены называют себя «солдатами Рылеева». После 27 ноября, особенно после 9 декабря, они уподобились скаковым лошадям, взнузданным временем. Шенкеля давал Рылеев.
Бестужевым владело общее возбуждение, усиленное соседством с Кондратием. Однако и сейчас он способен был отвлечься ради сочинительства, очередной красавицы или портного, «строившего» новый мундир. Потом, наверстывая, бросался выполнять поручения Катона. Он и сам давал поручения: они воспринимались всеми, словно бы шли от Рылеева. Имена, красовавшиеся рядом на обложке «Полярной звезды», существовали неотделимо. Для осведомленных Бестужевы выступали во множественном числе — к декабрю двадцать пятого года в заговоре состояли четверо из пяти братьев.
* * *
Облачившись в мундирный сюртук, Александр Бестужев отправился через двор навестить Наталью Михайловну. Его озадачивала откровенность Рылеева с женой в разговорах об «управе».
Наталья Михайловна не находила себе места, и Бестужев с трудом отвлек ее, затеяв возню с Настенькой, обещая свезти малышку в лес, познакомить с настоящим медведем, ручным, понимает человеческую речь… Барон Штейнгель, человек основательный, солидно подтвердил: такие медведи встречаются.
Приход Штейнгеля заставил бросить игру с Настенькой. Они налегке миновали двор, поднялись во флигель. Владимир Иванович грузно сел, заполнив собою кресло, Бестужев плюхнулся на софу, по привычке поджал под себя ногу.
Штейнгель скользнул из-под очков по чертежам на столе, неопределенно покачал головой — «зачем это? нужно ли?» — и уставился на Бестужева.
— По вашей милости, Александр Александрович, очей не сомкнул.
Бестужев растерянно вскочил. Он редко беседовал с бароном, но уважал его, подавляя в себе безотчетный ропот. Владимир Иванович еще ничего не сказал, а хочется возразить; уже сказал, возразить нечего, а все-таки хочется. Не от величественного ли спокойствия Штейнгеля при общем волнении?