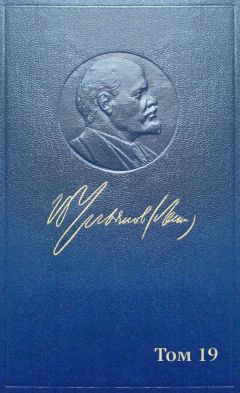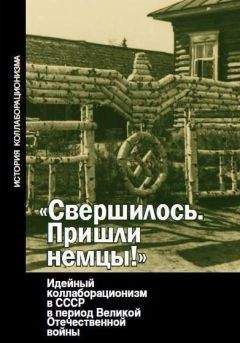«…Одно все мучительнее и мучительнее: неправда безумной роскоши среди недолжной нищеты, нужды, среди которой я живу. Все делается хуже и хуже, тяжелее и тяжелее. Не могу забыть, не видеть…»
«…Приходили в голову сомнения, хорошо ли я делаю, что молчу, и даже не лучше ли было бы мне уйти, скрыться… Не делаю этого преимущественно потому, что это для себя, для того, чтобы избавиться от отравленной со всех сторон жизни. А я верю, что это‑то перенесение этой жизни и нужно мне…»
«…Я не могу долее переносить этого, не могу и должен освободиться от этого мучительного положения. Нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить, не могу и не буду…»
«…Помоги мне, Господи. Опять хочется уйти. И не решаюсь. Но и не отказываюсь. Главное: для себя ли я сделаю, если уйду? То, что я не для себя делаю, оставаясь, это я знаю…»
Помню, как, возвращаясь однажды в эти дни с одинокой прогулки в лесах, Л. Н. — с тем радостно вдохновенным выражением, которое последние годы так часто озаряет его лицо, — встретил меня словами: «А я много и очень хорошо думал. И мне стало так ясно, что когда стоишь на распутье и не знаешь, как поступить, то всегда следует отдавать предпочтение тому решению, в котором больше самоотречения».
Из всего этого видно, как глубоко Л. Н. чувствует свое положение, как страстно ему по временам хочется скинуть с себя свое ярмо и вместе с тем как чистосердечно и самоотверженно он ищет не своего облегчения, а только одного
— выяснения того, как ему следует поступить перед своей совестью, перед тем «Богом своим», служению которому, не только словом, но и делом, он посвятил всю свою жизнь.
После этого как близоруко, как несправедливо и жестоко звучат слова — в особенности в устах такого любящего и любимого друга Л.H., как ты, — о том, что «его послушание перед Софьей Андреевной ты считаешь не достоинством, а слабостью». Мы можем предполагать, что на месте Л. Н. мы поступили бы иначе, хотя нам трудно сказать, сделали бы мы, поступая иначе, лучше или хуже, чем он. Мы можем не понимать всего того, что творится в его душе, а потому можем недоумевать перед некоторыми его поступками. Но я по крайней мере не могу не относиться с величайшим уважением к тем чистым, самоотверженным побуждениям, которые им руководят; не могу не чувствовать к нему полного доверия в том смысле, что если человек, жертвуя всеми своими личными потребностями и удовольствиями и несмотря ни на какие свои страдания и лишения, неуклонно старается исполнять требования своей совести, то он делает все, что можно ожидать от человеческого существа, и никто не имеет ни права его осуждать, ни надобности беспокоиться за него.
Ведь, в самом деле, для нас, глядящих со стороны на жизнь Л. Н., она представляется внешним зрелищем, которое мы можем рассматривать, смотря по нашему настроению: иногда спокойно и с снисхождением, иногда с раздражением и осуждением; то с чувством личной досады, то в духе учительства и нетерпимости, то просто легкомысленно, не вникая в сущность дела и не зная и не принимая в соображение всех обстоятельств — одним словом — которое мы можем рассматривать так или иначе, но почти всегда сами находясь на духовном уровне, гораздо низшем, чем тот духовный уровень, на котором в настоящее время большею частью пребывает Л. Н.
О Л. Н. и его образе жизни мы в свободные минуты решаемся судить и рядить, как о чем‑то нам гораздо более доступном и понятном, нежели ему самому. «Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу». Мы забываем, что для нас это есть только вопрос, о котором мы можем иметь то или иное суждение, о котором можем при случае спорить, доказывать и опровергать, но что для Л. Н. вопрос этот есть вопрос совести, есть само дело его жизни, то, во что он вкладывает всю свою душу, все разумение свое. Какое основание имеем мы воображать, что мы, посторонние зрители, сознающие себя гораздо ниже Л. Н. в духовном отношении, — в состоянии лучше разобраться в его жизни и добросовестнее для него решить, как ему следует поступить, нежели может это сделать он сам, день и ночь молитвенно перед Богом ищущий руководства для своего поведения? Неужели мы сами так легко и безупречно справляемся со всеми затруднениями и осложнениями нашей собственной жизни, что у нас остаются и время, и силы, и охота врываться в чужую жизнь и распоряжаться в самом тайнике души другого человека, да еще человека, подобного Л.H., изо дня в день живущего перед лицом смерти и напрягающего всю силу свою исключительно проникновенного и просветленного сознания к тому, чтобы как‑нибудь не ошибиться, не оступиться, а понять и исполнить то, чего требует от него Бог?!
Мне кажется, дорогой Досев, что мы могли бы иметь достаточно доверия к добросовестности и чистоте побуждений этого друга нашего для того, чтобы верить, что он делает, что может и как может, и что относительно своего собственного поведения он гораздо лучше нашего понимает и знает, как ему следует поступать.
Пускай враги его злорадствуют над его кажущимся унизительным положением, пускай осуждают или покровительственно жалеют его узкие и близорукие «толстовцы», лишенные сердечной чуткости и проницательности; но нам, его истинным друзьям, людям одного с ним духа, понимающим то, чем он живет, и стремящимся к тому же, к чему и он стремится, — нам‑то подобает побольше верить и доверять ему.
Как тебе известно, из друзей Л. Н. никто больше меня и Анны Константиновны не страдает от отношений Л. Н. к Софье Андреевне, лишивших нас одной из величайших радостей нашей жизни — личного общения с Л.H., ради пользования которым мы, главным образом, и поселились в здешней местности. Признаюсь тебе откровенно, что по временам и я не вполне понимаю те или другие поступки Л. Н. в этой области, а в минуты душевной слабости бываю даже склонен чувствовать как бы несправедливость и обиду не столько за себя, сколько за слабую больную Галю, на которой эта искусственная разлука так удручающе отражается. В такие минуты мне становится очень больно от сознания того, что над личным общением между Л. Н. и нами, его ближайшими беззаветно преданными ему друзьями, как бы командует шальная воля нелюбящей его и ненавидящей его душу женщины, обезумевшей от эгоизма, злобы и корысти. Но подобные чувства и мысли бывают у меня только в периоды несомненного ослабления моей духовной жизни. Когда же я нахожусь в хорошем состоянии духа, то все это тяжелое и обидное покрывается моим доверием к Л. Н. моей ничем непоколебимой уверенностью в том, что он для себя ничего не желает, а старается, всеми силами старается только об одном — том, чтобы в каждую данную минуту исполнять то, чего требует от него Бог. Если же при этом он иногда и ошибается, как свойственно ошибаться всякому человеческому существу, то ошибки его происходят не из желания чего‑либо для самого себя, а наоборот, от того, что он иногда чрезмерно жертвует собой, находя в этом внутреннее для себя удовлетворение и не замечая того вреда для нее и той боли своим друзьям, которые он этим подчас причиняет. Но у кого хватит духу осуждать человека за ошибки чрезмерной самоотверженности!