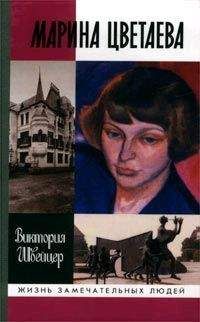Только однажды Цветаева опубликовала свои стихи: в мартовском номере журнала «30 дней» за 1941 год «Вчера еще в глаза глядел...» – стихотворение двадцатилетней давности. Из него убрали трагическую строфу с упоминанием о смерти:
Все ведаю – не прекословь!
Вновь зрячая – уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница. —
и добавили заглавие «Старинная песня», ибо у советского человека даже любовь обязана быть счастливой. Но и в этом вполне нейтральном виде стихи были замечены и вызвали нарекания критики: «меланхолические причитания Марины Цветаевой, изобличающей любовь-мачеху и страдающей оттого, что „увозят милых корабли“, „уводит их дорога белая“»...[268] Цветаева была абсолютно несозвучна советской эпохе.
Она жила уже сверх возможного, одним чувством долга. Внешне, на людях, Цветаева держалась, ее вспоминают приветливой, сдержанной, воспитанной. Мало кто мог догадаться, что творилось в ее душе. Да и некому было догадываться – близких друзей не было, а чужим кто же открывает душу? В рассказах тех, кто знал тогда Цветаеву, мне приходилось сталкиваться с аналогичным сюжетом: человек встречал ее, беседовал, иногда слушал ее стихи и понимал, что перед ним незаурядная личность – но знакомство быстро иссякало: у одного начинался роман, на другого наваливалась большая работа, у третьего возникали какие-нибудь житейские неприятности... Людям оказывалось не до Цветаевой, тем более что общение с ней не было легким, требовало душевного и умственного напряжения. Каждый хотел надеяться, что у нее есть другие друзья, которые ее не оставляют. Цветаева не навязывалась...
Узнав о самоубийстве Цветаевой, Б. Л. Пастернак признавался в письме жене: «Последний год я перестал интересоваться ей. Она была на очень высоком счету в интел<лигентном> обществе и среди понимающих, входила в моду, в ней принимали участие мои личные друзья, Гаррик, Асмусы, Коля Вильям, наконец Асеев. Так как стало очень лестно числиться ее лучшим другом, и по мног<им> друг<им> причинам, я отошел от нее и не навязывался ей...»[269] Но Цветаеву даже в юности не интересовала «мода» на нее, а в этот последний год она как никогда нуждалась в дружеском понимании, тепле и участии. И то, как Таня Кванина приносила ей и Муру еду, как Генрих Густавович Нейгауз и Зинаида Николаевна Пастернак помогали собирать деньги на квартиру, как мало (или совсем?) незнакомый Самуил Яковлевич Маршак по первому зову принес деньги, было для Цветаевой, я уверена, душевно дороже восторженных слов о ее стихах, произносимых Асеевым и другими; она сама жила под девизом: «Друг – действие». Е. Б. Тагер рассуждает об этом времени: «погрузившись, казалось, в почти безвыходную ситуацию, Цветаева одновременно, впервые пожалуй, оказалась окруженной атмосферой такого восторженного поклонения, которого она была лишена всю свою жизнь. В Голицыне она царила по вечерам среди восхищенной писательской братии, и в Москве к ней тянулись, знакомства с ней добивались все подлинные ценители поэзии». Несколькими страницами выше вы прочитали, как один «ценитель» из «восхищенной братии» безжалостно и грубо «зарезал» ее книгу. Пытаясь быть честным, Тагер добавляет: «Правда, преодолевая при этом иной раз опасения за факт встречи с отверженным поэтом». Я думаю, Е. Б. Тагер заблуждался в обоих случаях: и в эмиграции были люди, высоко и восторженно ценившие поэзию Цветаевой, и в Москве очень часто «опасения» перевешивали любовь к поэзии...
Нет, конечно, она жила не в безвоздушном или безлюдном пространстве. Были люди, помогавшие ей получать работу, как В. Гольцев, Н. Вильям-Вильмонт, редактор Гослитиздата А. П. Рябинина... А. К. Тарасенков, работавший в журнале «Знамя», держал наготове подборку стихов Цветаевой, чтобы в подходящий момент (увы, не наступивший) предложить их в номер. Он же некоторое время хранил у себя чемодан с ее рукописями, а Цветаева выправляла его саморучное в единственном экземпляре «издание» ее стихов. Были те, кто помогал справляться с бытом: добыть нужные справки, получить багаж, найти врача для Мура, собирать передачи и вещи для Али и Сергея Яковлевича... Мне кажется, что первой в этом ряду нужно назвать Елизавету Яковлевну (Лилю) Эфрон, душевно и деятельно разделявшую с Мариной Ивановной все волнения, страхи и заботы о близких. Как видно из писем Цветаевой, друг и помощница Лили Зинаида Митрофановна Ширкевич брала на себя часть хозяйственных забот. По-настоящему сблизились с Цветаевой и Муром и участвовали во всех их делах и заботах друзья Али: Муля (Самуил Давыдович Гуревич) и Нина (Нина Павловна Гордон). Их отношение было той поддержкой, в которой она так нуждалась; и Цветаева, и Мур пишут о них Але с любовью и благодарностью...
Цветаева трезво оценивала свое положение и отношение окружающих, остро ощущала одиночество и приоткрывалась лишь в тетрадях, письмах, в случайно оброненных фразах. «Меня все считают мужественной, – записывала она и признавалась: – Я не знаю человека робче себя. Боюсь – всего...» Страхи питались не мистикой, а реальностью: «по ночам опять не сплю – боюсь – слишком много стекла — одиночество – ночные звуки и страхи: то машина, чорт знает что ищущая, то нечеловеческая кошка, то треск дерева – вскакиваю...» Как и многие, Цветаева в ужасе прислушивалась к любому ночному шороху, боясь ареста. Ведя себя спокойно на людях, она не притворялась – она «держалась», пока жила и считала нужным жить.
Пишутся ли стихи в таком состоянии? На примере Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама мы знаем, что пишутся: они стихами преодолевали страх. Цветаева в любой жизненной ситуации тоже находила выход в поэзии, ею преодолевала жизнь. Победа «письменного стола» над «бытом» была для Цветаевой естественным образом жизни. Быт навалился на нее с начала революции, и она научилась с ним бороться. Разделавшись с ним, отвернувшись от него, остаться наедине со своим Гением – для поэта счастье. При всей трагичности судьбы Цветаевой она прожила творчески счастливую жизнь, сумев осуществиться в поэзии. Подвигом был бы для нее отказ от стихов, а не борьба с бытом. Этот подвиг она совершала, живя в Советском Союзе. Незадолго до отъезда из Парижа она сказала М. Н. Лебедевой: «если не смогу там писать – покончу с собой». Она работала до самого отъезда – последнее из «Стихов к Чехии» написано меньше чем за месяц до приезда в Москву. Отказ от стихов был для Цветаевой сознательным актом, а не следствием творческого бесплодия. Сетуя на трудности болшевского быта, она спрашивала сама себя: «Когда писать??» Стихи «стучались» к ней, но она их не пускала. В письмах она повторяла, что «своего» не пишет: «Я свое написала. Могла бы, конечно, еще, но свободно могу не...» Могла бы...