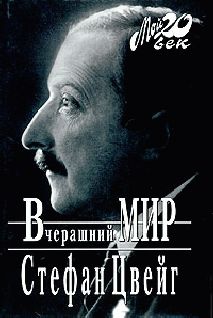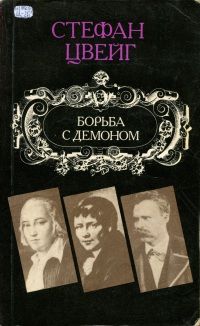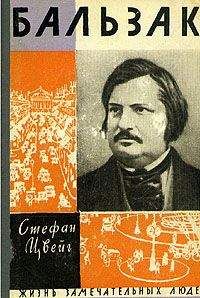Из Германии пришло поздравление в виде букета цветов, а несколько дней спустя сам отправитель стоял в наших дверях – Томас Куфус, режиссер и тем временем друг. Он оставался у нас несколько дней, чтобы поддержать нас – соображение не такое уж несуразное – в наших первых шагах на Западе. И я ему был за это не менее благодарен, чем венцам. Казалось бы, пустяки, да и только! Но насколько они делают более сносным для воистину неимущего вживание в чужой мир. Свежие фрукты или помидоры, к примеру, зимой – самые естественные в мире для обитателей Западного полушария, но для нас, кто свежие фрукты и овощи мог купить лишь по баснословным ценам на рынке, это было совсем не естественно.
Поразительно было и трогательно видеть, какую заботу проявляла о нас эта госпожа доктор Гергели. Мудрая женщина, видевшая, что зимой нам, приехавшим из театрального города Ленинграда, необходима не только богатая витаминами еда, но и пища духовная, присылала нам билеты в театры, и прежде всего в Венскую оперу, прекрасно осознавая, что для моей жены, едва понимавшей немецкий язык, драматический театр пока еще недоступен. Но, несмотря на внимание и помощь, которые нам оказывали, первые недели мы передвигались в городе довольно неуверенно. И здесь не меняло ничего то обстоятельство, что до этого я в нем уже побывал, завязал первые контакты и знакомства (хотя просто знакомства, сами по себе, в Вене ни о чем еще не говорят).
Большая разница, побывал ли ты где-то временно, гостем, или это где-то становится для тебя – по воле случая – более или менее постоянным прибежищем, из которого, хотя и с грустью, ты можешь с облегчением оглядываться назад, но которое каждый день преподносит тебе все новые и новые неожиданности. Особенно проблематичной была и остается эта ситуация для моей жены. Лишившись своей привычной работы, которая в Ленинграде придавала ей ощущение самостоятельности и независимости, она вынуждена была здесь бездействовать, потому что с английским, которым она владела – как все советские инженеры – весьма пассивно, ни с соседями по дому, ни в магазине не больно-то разговоришься. Более, чем когда-либо до сих пор, она на этом первом этапе безъязыкости была привязана только ко мне, словно вдруг ослепший человек, который в полном отчаянии не может без сопровождения самостоятельно сделать и шага. Она, конечно, знала, каких неопределенностей и неприятностей мы избежали, но ей пришлось покинуть город, в котором она родилась, с судьбой которого неразрывно связана уже своим рождением в страшные блокадные дни в январе 1942 года. Ей пришлось оставить там всех своих родственников и свою мать. И в эту ее внезапную немоту вторгалась беспросветная тоска по дому: по родным местам, по близким людям – и неискоренимая надежда, которую каждый, кому пришлось покинуть родину, носит с собой, – надежда на то, что однажды он сможет вернуться, какой бы большой или маленькой эта родина ни была. Она пробуждалась в Светлане при чтении писем из Ленинграда или прослушивании новостей по какой-либо русской радиостанции.
Я освоился в новой обстановке, бесспорно, гораздо быстрее, ведь у меня буквально с первого дня была работа и, к счастью, не было никаких проблем с языком. Тем не менее я был и все еще остаюсь чужим в этом, разумеется, не своем, но поразительно родном городе. Мое родимое пятно – и здесь, в Вене, пусть совсем по-другому, – дает о себе знать. Отметина, которая выделяла меня в Советском Союзе, где я был чужим в собственной стране, делала меня приметным каждому русскому как нерусского. И если там моя внешность могла вызывать некоторые сомнения по поводу моей национальности, то моя на все сто процентов нерусская фамилия давала самую очевидную определенность. Ведь любой представитель власти – от самого мелкого чиновника до высочайшего чина – был уже с детства, в октябрятах, пионерах и комсомольцах, что называется, натаскан везде и всюду с быстротой молнии реагировать на это запрограммированное на дискриминацию отличие в фамилии. Неудивительно поэтому, что здесь, в Вене, скажем в наземке, по дороге в школу, я ощущал себя довольно долгое время подавленным. Было такое чувство, будто мне следует затаиться и не бросаться в глаза другим пассажирам, даже если те проявляли по отношению ко мне полное равнодушие.
Венская школа, базирующаяся на антропософских принципах ее покровителя Рудольфа Штайнера, в которой я теперь знакомлю австрийских детей и подростков с русским языком и – насколько это возможно в рамках урока – с русской классической литературой, была для меня, знавшего до тех пор лишь закореневшую доктринерскую советскую систему образования, настоящим раскрепощением. Непривычна и удивительна сама процедура приема в эту школу. Здесь все решает не какая-то мифическая инстанция или руководящий чин – здесь практикуют опыт Венской филармонии, где в приеме нового члена оркестра решающий голос имеют все музыканты. В этом месте я впервые ощутил неподдельные терпимость и снисходительность, которые отличают состоящий отнюдь не только из австрийцев педагогический коллектив.
Я был чужим, новичком и во многих отношениях еще беспомощным, но здесь не было, можно сказать, никого, кто бы не понимал моего положения – прежде всего моей финансовой ситуации. И таким образом, я получил (хотя оклады учителей роскошными не назовешь) с самого начала более высокий оклад, чем некоторые коллеги в школе. Они видели, что я в нем нуждаюсь, что для меня поначалу важен был каждый шиллинг; и они помогали мне – не только в школе. Они заботились также о том, чтобы в квартире, которую предоставила мне школа, было по меньшей мере самое необходимое: спальные места и принадлежности, стол, стулья и даже телевизор – все, что надо человеку, приехавшему в чужую страну со скарбом чуть большим, чем ручная кладь. «Как ваши дела? Справляетесь ли вы со всем? Что мы можем еще для вас сделать?» Не знаю, как часто я слышал эти вопросы в свои первые венские месяцы или по меньшей мере ощущал их невысказанными.
Конечно же, я ценил это участие во мне, ведь я нуждался в помощи. И тем не менее я все равно казался себе экзотической птицей, случайно залетевшей сюда, – этаким попугаем, вырвавшимся на волю из своей клетки. И вот теперь слегка потрепанный и несуразный попугай этот все никак не мог взять в толк, что же поделать со всей этой безграничной свободой, на которую он тоскливо глядел до того сквозь прутья ненавистной клетки. Несколько раз меня и жену приглашали к себе Кнойкеры на ужин с вином и приятными разговорами, и мы уносили с собой толику той замечательной приподнятой атмосферы, которую в этих кругах еще чтут, в нашу маленькую квартиру, сидели за кухонным столом, пили чай и говорили тем не менее снова о Ленинграде.