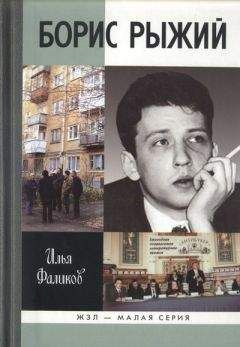Бердяев, возлагая на плечи себе горделивую задачу — во что бы то ни стало «усовершенствовать» свой разум, не видит новых живых веяний. Русское общество стремится припасть к груди матери — народа своего, чтобы там найти и новые пути, и новые силы.
Бранить это явление обскурантизмом, обижаться на то, что прошло время старых богов, — совершенно не приходится. Наоборот, надо бы готовиться к тому, чтобы отдать ответ на страшном и близком суде народном в том, как легко разные русские литераторы сеяли разные ереси, стремясь за тонкостью и изяществом «заумных» знаний, оскорбляя этим малых сих, нелепо составляя государство из единичных Максимов Ковалевских и многомиллионных Распутиных и удивляясь, что софианство и прочие тонкости уже стали встречать недоверие, а то и здоровый смех Ульриха фон Гуттена, который именно в своих письмах показал, что в старых схоластиках сидят тёмные люди, а те, кого схоластики считали тёмными, — приняли главное имя
— Гуманистов!
Гун-Бао. 1929. 21 февраля.Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить…
Ну, конечно!
— Старые птицы, старые песни…
«Особенная стать»… Аршином не измерить… Можно только верить…
Сколько рулад мы слышали на эту несложную тему!.. И славянофилы… И западники… И восточники… И евразийцы… И марксисты… И многие им подобные открывали Россию как нечто совершенно небывалое.
В России усматривали особый «русский дух», «русскую стать», «нечто отличное» от Запада. В сущности говоря, в этом уже был некоторый прогресс.
Потому что в старое доброе время никто на Руси не интересовался Западом и подобных проблем не ставил. Русский боярин, выйдя по своим надобностям на свой широкий двор и встречая там приехавшего с визитом иностранца, осведомлялся не очень учтиво:
— Чево тебе здесь надобно?
Россия, или, если угодно, Русь, — стояла тогда нерушимо в своём именно том обличии, которое было ей свойственно… Худо это или хорошо это, «особая ли стать» была тогда у народной толщи, или же нет, — об этом и вопроса не подымалось — средневековье дышит упористо и твёрдо собственным дыханием.
Русский был русским, немец был немцем, татарин был татарином, и взаимоотношения между этими разными индивидами могли быть теми или другими — независимо от теоретических воззрений на существо русского духа:
— Таковые — судьбы нового времени…
Да и теперь положение по существу таково же. Спросите у русского мужика — какая у него «стать»… Едва ли вы получите ответ, достойный Шпенглера, Леонтьева или хотя бы Ленина… Крестьянин, крепкий, как факт.
Особенность русского народа появилась, как появляется начаток каждого знания, — из сравнения. Из опознанного в этом сравнении отличия:
— Это не то… Это что-то особенное…
Вот когда дело дошло до опознавания, что же это особенное, причём процесс этого опознавания был принят на себя интеллигенцией, то тут и пошли известные разногласия:
— Потому что каждый из русских мыслителей — оказался подобным Кювье, который из одного позвонка какого-то там допотопного животного конструировал весь скелет…
Но Кювье был один; а русских Кювье оказалось великое множество… И психологически инертно, пользуясь известной системой полученных ранее общественных, исторических и прочих навыков, — эти господа стали конструировать формы России из глубины своего духа, руководствуясь теми или иными своими теориями, красивыми аналогиями, в которых очень много эстетики, и особой верой, свойственной каждому живому народу, — известного рода верой в мессианскую задачу России…
В России было мало философов, зато, увы! — много философствующих. И в этом опознании сказалось это качество:
— По поводу России все критиковали и философствовали вкривь и вкось…
Возьмите любого нашего публициста и мыслителя; красивые образы, сравнения, вера, порыв, приподнятость чувств… Но его сосед опровергает его не менее пышным фонтаном образов, сравнений, предуказаний, многозначительных намёков…
Пока всё это остаётся хотя бы в сфере искусства — всё это очень хорошо… Но как только эти интеллигибельные построения (или, по-современному, — «заумные») привести на свет науки — обязательно для всех, то от них ничего не остаётся, как от пышного фейерверка днём:
— Потому что все эти построения и гадания о «судьбах» России — есть только фейерверки, в соответствующей им общей тьме сознания. Это — красивый свет, пышный узор, рождённый из света, который, однако, не очертит действительности, а только сместит её очертания.
* * *
В самом деле. В чём отличие России, как известного понятия, от Запада?
Очень просто. В том же, в чём отличие западного курорта от русского пейзажа.
Есть особый род гармонии, который мы чувствуем от тех вещей, которые нам доставляет культура, сделанное, убранное руками.
Они — нам приятны, эти вещи. Дорожки — прямы, везде стоят скамейки, крашеные, чистые, удобные. Деревья — подстрижены, для бумаг — корзинки, трава не засорена. Люди — все не лохматы, а подстрижены, прилично одеты, не ругают предпоследними словами. Прислуга — на местах, вежлива, каждый охотно и чётко исполняет своё дело. Ворота в парк открываются в известное время, и, обедая, вы не видите в супе волос и мух (что, по существу, совершенно естественно — волос с головы стряпухи, муха, потерявшая сознание, — падают в суп).
Вы ясно чувствуете, что вся окружающая обстановка вокруг вас пронизана рациональностью, легка, не давит вас своей никчёмностью, необузданностью, грубостью, наконец… Совершенно естественно, что с людьми приятнее иметь дело, нежели со зверями, а с культурными и воспитанными людьми — приятнее, нежели с лохматыми детьми природы…
Описывать соответственные русские виды я не буду — они известны всем; так было раньше, так осталось и теперь. Скажу только, что элемент уверенности в будущем при такой постановке дела играет весьма существенную роль. Если вы выставляете сапоги за дверь для чистки в иностранной гостинице — вы знаете, что найдёте их чистыми наутро. В русской гостинице у вас их просто сопрут, и, как известно из совпрессы, — их даже надо прятать под подушку…