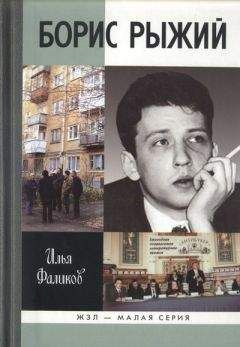Наличие революции, конечно, было раскрытием того обстоятельства, что объективность таких лозунгов подверглась большому сомнению. Правда, есть и теперь небольшие группы, которые до сих пор твердят это содержание, но оно уже не соответствует «массовости», не оправдывается массой и представляет из себя просто некий психологический образец консервации мысли, невозможности осознать для некоторых объективность своего положения. Такие личности и группы, сохраняющие старые лозунги в полной их неприкосновенности, — подобны любопытным музейным фигурам, восковым статуям в паноптикуме.
Уже известным достижением русского народа было сознание относительности этих старых лозунгов, сознание того, что эти ведущие лозунги только тогда правильны, когда их восклики отражены тысячекратным народным раскатом. В этой гармонии лозунга и народа лежит объективная сила политической мысли.
И в то время, когда умирали старые лозунги, — в народе проявились новые живые линии и революция оживила национальные осознания русских меньшинств.
* * *
Теперь, после двенадцати лет революции, — нельзя отрицать эти осознания: в результате их — появились и лимитрофы, и известные автономистские тенденции, областной национализм, который, причудливо смешиваясь с заигрыванием Москвы, во что бы то ни стало желающей сохранить старое единство, даёт неожиданные плоды, о чём мы уже неоднократно писали. Никто не сомневается в том, что в будущей России нельзя больше будет применять к меньшинствам такую грубую нивелирующую политику, как то было до революции. Равным образом этот же факт революции делает предостережение и некоторым слишком большим шовинистам из этих меньшинств, напоминая им весьма вразумительно, что не всегда лозунги, порождённые волей и страстью, обидой, злопамятством, бывают прочны.
Усиление же областных влияний, проявляющееся сейчас в России, — влечёт за собой ещё одно последствие, а именно — утрату влияния столиц России, утрату их преобладания над «провинцией». Провинция выступает теперь на первый план. В будущей России не будет больше этого исступлённого обожания столицы, «где науки и искусства», где почему-то больше всего привлекали публику «театры», словно без этих фальшивых нарядных и фантастических учреждений нельзя жить народу. Театр — это опий прошлой России.
Каждый город новой России, каждый её уголок будет не менее важен, нежели столица, где представляют «на театрах», где стоят университеты, «где упражняются в науках и безверии профессора»… Не будет больше дорогая Чухлома насмешливым именем, а и оттуда придут люди, которые будут требовать отчёта и предъявлять свои нужды «столичным» франтам от фрака и идеи…
Но животворно проливающаяся в тусклое сознание объективность не ограничивается только лишь сознанием текущего момента — хлещет и в прошлое, в русскую историю. Русская история была всегда историей старой условной России и подлаживалась к её лозунгам. Трудно в настоящее время читать без горькой улыбки хотя бы того же В. О. Ключевского, который в свою мудрость и лукавость дьяка XVII века протягивает либеральные формулы, зачастую чрезвычайно приблизительно.
Национальные меньшинства разрабатывают свои истории, и, таким образом, русская история рано или поздно соборно возникнет как свод таких отдельных историй, как возникали старые летописные своды, содержание которых потом переплавлялось на огоньке разных лозунгов момента. Одновременно с этим прежняя мессианистичность русской истории должна будет уступить место упору в землячества, в историю местную… И только тогда станет очевидным тот умный и сложный механизм, которым построено было государство русское — не абстрактным лозунгом, а живой игрой живых сил.
В частности, мы найдём в этой истории русских областей немало поучительных моментов; например интересен мало кому известный порыв Поволжья, в ту пору недавно ещё присоединённого к Русскому царству во время Смутного времени: отойти и образовать своё Поволжское царство под ферулой Турции или Персии. В то время как Москва была в кипении, когда она присягала и Владиславу, и ворам, Поволжье никому не присягало, держалось в стороне и, в отчаянии от происходящего, возжелало сепарации; и оттуда же, с этой Поволжской Украины, изошло движение, объединившее Русь — не лозунгами, но силой, вдохнувшее новое содержание в московскую форму.
Не из-за дождей долго стояло поволжское ополчение, но из-за несогласия по выработке именно этой новой тактики.
Таким образом, просеки, осветляющие огромное царство Руси, мало-помалу проясняются и располагаются по этнографическим и историческим границам русского населения. И думается, мы не ошибёмся, если скажем, что они идут ещё и по другим линиям:
— По сословным…
* * *
Интеллигенция русская жила в столицах, городах и изображала собой культурную силу, соль земли… Но соль земли потеряла свою солёность и не осолила в один прекрасный день государства… Говоря старым языком, «приказ умер, а осталась земщина».
Крестьянство — земщина, земля — вообще было не в фаворе чиновного приказа. Когда стараются как можно сильнее обругать Распутина за то, что он советовал то же, что советовал Бисмарк, а именно — не воевать с Германией, то наиболее выразительное словцо для этого выбирают — «мужик».
И в подвале, убранном персидскими коврами и серебряной старинной утварью, князь Юсупов, последний боковой отпрыск древнего татарского рода, травит цианистым калием, потом решетит из револьвера — кого же?
Посмотрите его только что вышедшие записки — и вы увидите то же сакраментальное слово:
— Мужика!
— Убита собака! — захлёбываясь, писали газеты.
А образ мужика Распутина своей тенью накрыл Россию; пули, которые летели в его широкую спину, — летели в спину символического мужика. Только мужик Распутин не дал себя обмануть в той свистопляске, которая поднялась в вихре международной политики, в котором очумела чиновная Россия, — и в него стали стрелять, его стали травить…
Есть от чего в отчаяние прийти!
Последующие события вымели высшие классы и то же дворянство из России — и если кто и остался теперь в России не тронутый революцией, прошумевшей в «столицах» и в «городах», то это только мужик.
Ещё Чаадаев говорил, что катаклизм может произойти только там, где есть строение высокое; где стоит деревянная и соломенная Русь — никакого разрушения, катастроф быть не может. Русь может только сгореть, а там быть снова построенной из вековечного материала.