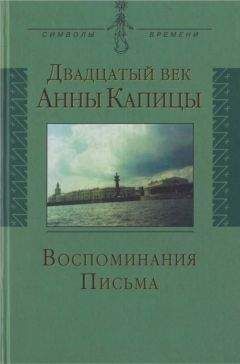Я зарывалась в ее пушистую, темную духоту и начинала пробираться дремучим лесом в гости к былинам. Солнце не проникало сюда даже днем, стволы деревьев обросли мягким мхом. Иногда мимо меня мелькали на земле опасные тени, состоящие из одних ног. Огромные, молчаливые птицы, пролетая мимо меня, хлопали крыльями, как кухонными дверями. Неподалеку, шумно, как из крана, задыхаясь, лилась вода из родника. Иногда родник затихал, и тогда с той стороны леса слышались какие-то глухие нечеловеческие, зловещие голоса. А я все шла и шла. Рыжая белка, перескакивая с дерева на дерево, стучала каблучками и указывала мне путь. А на самой высокой елке сидел одноглазый филин. Стеклянный глаз его зловеще мигал и был похож на голубоватый плафон, висящий на потолке в нашей передней. Мясорубкой скрипел притаившийся за кустами леший, и баба-яга толкла в ступе не то миндаль, не то человеческие кости. Но мне не было страшно, потому что теплый лес был заодно со мной, он хотел, чтобы я скорей пришла в гости к былинам.
И вот наконец начали редеть деревья, немного разомкнулись створки леса, и солнце стало просвечивать через ворсистую листву. Замелькали цветы на ковре в гостиной и запахли мамиными духами Кор-де-Жанетт. Еще немного, и что-то закачалось, задвигалось наверху, и сразу уже все солнце, которое было на небе и у нас в доме, обрушилось на меня. Разом запели птицы мамиными голосами, цветы с ковра поднялись во весь рост, и налетевший ветер заиграл на рояле.
Я вышла из леса на поляну и направилась к Володе. Не теряя ни минуты, мы пошли с братом в гости к былинам…
Илья Муромец сидел, задумавшись, на большом липовом пне. Солнечный свет не золотил, а серебрил его. Могучие плечи старика прикрывала старая, дырявая кольчуга, вокруг головы роем вились пчелы, но никогда никого не жалили. (В володиных сказках Илья Муромец почему-то был пасечник.)
Очень рад был нам Илья Муромец, угощал хлебом с медом, рассказывал про Владимира Красное Солнышко, про Соловья-Разбойника и предлагал отдохнуть на перинах из мха.
Тихо и хорошо было у старика Муромца. Пригревало солнце, и пчелы убаюкивающе жужжали. Клонило ко сну, но нам было некогда отдыхать, нужно нам было повидаться и с другими былинами.
Полями и лугами, через овражки и ручейки шли мы к Добрыне Никитичу.
Добрыня Никитич ждал нас у Ильмень-озера. Он сидел на бережку и рыбачил, карий конь его ходил неподалеку и щипал траву. Глаза у того коня были человечьи, а уздечка шелковая, и щипал он не простую травку, а плакун-траву. Трава та была вредной, так как от нее происходили все людские слезы. Вот этот конь с человечьими глазами и шелковой уздечкой и старался вырвать всю плакун-траву из земли, чтобы она не множилась, чтобы и духу ее не было, чтобы все детки (и я, конечно, в том числе) перестали плакать. Конь знал свое дело, а Добрыня Никитич сидел на бережку и рыбачил. Рыбы сами подплывали к нему и уговаривали его их поймать, но он не соглашался, так как рыбы ему были не нужны, а нужна ему была раковина, на дне которой находилось жемчужное зерно, а в том жемчужном зерне было спрятано все человеческое счастье — этого я уже не помню, но самого его помню отчетливо и в цвете: коричневая круглая борода и коричневые усы, а волосы посветлее, глаза золотистые и добрые, на голове шишак, в одной руке удочка, в другой палица, а рубаха под кольчугой красная и яркая, как мак.
Очень нравился мне Добрыня Никитич. Я считала, что если он Добрыня — значит добрый, Добрый Никитыч! И хотя добрый Никитыч ничем не угощал нас и был неразговорчив, я больше всего любила ходить в гости к нему…
Озеро, рябь на нем от пробегающего ветерка, рыбы, которые все время высовывали свои блестящие головы и просили их поймать, а главное, сам добрый Никитыч — такой надежный, задумчивый и в то же время воинственный и сильный — все это привлекало меня.
Удивительно было спокойно и приятно сидеть с ним на берегу озера и молча следить за его поплавком, сделанным из скрученной в трубочку березовой коры… Но нельзя было нам засиживаться и здесь, надо было нам спешить — мы шли дальше…
Богатырь Алеша Попович жил не на поляне и не у воды, а в новом тереме, сложенном из белых, пахнущих сосной бревен. Дорога к этому терему шла через березовую рощу. Стволы берез были так белы и шелковисты, что от них шел свет. Когда березы расступались, за ними возникал красивый Алешин терем.
Мы ходили с братом по разным горницам этого терема и не переставали удивляться.
Там ученая кукушка сидела на окне и куковала время, а дятел забивал гвозди в стену, чтобы можно было развесить Алешины доспехи. Там муравей-сапожник — в очках и кожаном фартуке — шил Алеше голубые сапожки, а паучихи-ткачихи ткали голубой шелк в белую полоску для его рубашки. Именно в полоску хотел носить Алеша Попович рубаху. Он был большой франт и одевался во все голубое. Складно сидел на нем голубой кафтан, русые волосы кольцами вились у него на голове, а голубая шапка была сдвинута на одно ушко. Он всегда улыбался и никогда не горевал. Любил петь и плясать, но стоило кому-нибудь из хороших людей попасть в беду, Алеша тут же брал в руки голубую палицу, садился на своего белого коня и скакал на помощь пострадавшему так быстро, что искры летели из-под копыт его коня.
Искры те вертелись и кружились в воздухе, потом ложились на землю золотыми березовыми листьями. Их никто и не замечал совсем, но стоило только на дороге показаться нищим или калекам-перехожим, как листья те обертывались золотыми деньгами…
Так и запомнился мне Алеша Попович голубым красавцем, верхом на белом коне и весь в золотых искрах. Был он очень хорош, но все-таки задумавшийся добрый Никитыч со своей таинственной удочкой нравился мне больше.
Илья Муромец — тот был не в счет, тот был как бы на покое. Он уж слишком интересовался своими пчелами и рассказами, а вот Добрыня Никитыч стал на всю жизнь моим тайным героем, и творителем этого героя был мой брат Володя.
Я любила рисовать. Кроме разных картинок, я рисовала бумажные куклы, вырезав их, и наряжала в бумажные платья.
Когда меня спрашивали перед очередным праздником, что мне подарить, я неизменно отвечала: альбом для рисования, цветные карандаши и краски.
Подарки клали на стул около кровати ночью, когда я спала.
Помню мучительное напряжение и желание не заснуть и подкараулить маму. Иногда удавалось не спать до той минуты, пока щель в двери не увеличивалась и в светлой полосе показывался силуэт мамы, но в момент ее продвижения к моей кровати я все-таки засыпала. Ни разу я не могла увидеть водружение подарков на мой стул. Но ночью или под утро, когда было еще темно, мне случалось просыпаться…