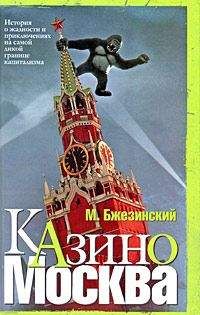Мои родственники, Романы, жили на первом этаже большого здания типового проекта, похожего на спичечный коробок. Эти проекты в массовом порядке экспортировались Советами во все их колонии. Когда я впервые в 1991 году появился в их дверях, тетя Дагмара встретила меня, смущенно покраснев.
– Мы знаем, что здесь тебе не удастся жить так, как ты привык у себя на Западе, – извинилась она, пропуская меня в узкую, облицованную деревянными панелями прихожую, где на одном крючке висели по пять потертых пальто. – Пожалуйста, прости нас за такую обстановку. Мы, должно быть, кажемся тебе очень старомодными.
Потребовалось сделать некоторое усилие над собой, чтобы скрыть шок от того, как четыре человека и две собаки могли уместиться на площади не намного большей, чем моя спальня в Монреале. Кухня со старым дребезжащим оборудованием и восемью квадратными футами желтоватого линолеума на полу легко уместилась бы в моем туалете.
Мои страдания еще более усилились, когда я узнал, что дядя Анджей вынужден жить в отдельном холостяцком помещении, расположенном дальше по коридору от остальной семьи Романов. Подобное нелогичное положение комнат в квартире, возможное только при коммунизме, для меня представлялось существенным шагом вниз по сравнению с условиями, в которых он родился.
Анджей был старшим двоюродным братом моего отца. Для меня он был своего рода напоминанием о том, какой могла бы стать моя жизнь, очутись мой отец тоже за «железным занавесом».
Анджею не было и пятнадцати, когда однажды утром 1946 года на виллу Романов вломились крестьяне, сталинские приспешники, стали ломать мебель и все громить.
– Пакуй свои сумки, свинья! – потребовали они и затолкали всю семью в открытый грузовик.
Имущество Романов было конфисковано «за преступления против народа», отца Анджея несколько дней допрашивали, а семью переселили в коммунальную квартиру, где они должны были жить вместе с тремя другими перемещенными семьями. Из-за буржуазного происхождения Романы не могли устроиться на работу и сумели выжить в послевоенные сталинские годы только за счет продажи фамильных вещей.
Высокий, щеголевато выглядевший мужчина лет шестидесяти пяти, с редеющими волосами и выразительными глазами, Анджей походил на сильного, жилистого спортсмена на пенсии. Он выглядел как джентльмен, рожденный для ношения смокинга, потягивания коктейлей с шампанским и стряхивания ароматного пепла с сигареты в мундштуке из слоновой кости. Юрист по образованию, он никогда не занимался юридической практикой и давно выбрал для себя карьеру спортивного обозревателя. При коммунистической власти спортивное обозрение являлось единственным видом журналистики, в котором было позволено говорить правду, не перенапрягать себя работой в офисе и выезжать за рубеж. Выбранная Анджеем профессия хорошо сочеталась с двумя его страстями – теннисом и карточной игрой в бридж с высокими ставками.
В восьмидесятые годы Анджей, как и половина его сверстников-поляков, стал диссидентом. Риск пробуждал в нем азартного игрока. Иногда он и его коллеги забирались с самодельными импульсными передатчиками-глушителями на крыши самых высоких домов, чтобы глушить правительственные радиопередачи вечерних новостей. В результате любой слушатель в радиусе одной мили мог слушать передачи «Солидарности» вместо пропагандистских передач польского Политбюро.
– Обычно это приводило комми в бешенство, – смеялся он, когда бы ни рассказывал эту историю, которую, кстати, повторял довольно часто. – У армии были автомашины с пеленгаторами, которые позволяли определять наше местонахождение. У нас оставалось лишь две минуты, чтобы направить наш сигнал и убраться с места, дабы не превратиться в мишень для милиции.
Кроме того, Андрей писал под псевдонимом статьи для подпольных газет, которые издавала «Солидарность» на деньги ЦРУ.
После падения коммунизма Анджей некоторое время работал пресс-секретарем фракции «Солидарности» в парламенте 1991 года. Однако вскоре он дистанцировался от профсоюза из-за его оппозиции к экономической реформе. К тому времени «Солидарность» превратилась в собственную тень. Больше не существовало такого, как в 1980-х годах, мощного движения, включавшего в себя фактически каждую польскую семью. Оно раскололось на полдюжины враждующих между собой партий, многие из которых выступали за сохранение расточительного субсидирования из бюджета для поддержки на плаву коммунистической промышленности.
– Какая короткая память у людей, – проворчал однажды вечером Анджей, когда мы собрались у старого телевизора, чтобы посмотреть репортаж о забастовках, охвативших всю страну против выдвинутой правительством аскетически строгой экономической программы, известной под названием «шоковая терапия». – Какая короткая и избирательно направленная память, – уточнил он. – Быстро же они забыли очереди за хлебом, – продолжил Анджей, когда Дагмара принесла чай, который мы пили по-русски, предварительно ошпаривая кипятком высокие стаканы. – И те дни, когда на полках магазинов были только одни бутылочки с уксусом. Они враз забыли всю ту ложь и ночные визиты тайной полиции. А они сейчас помнят лишь то, что у них были деньги, на которые не могли вообще что-либо купить.
Несмотря на то что Дагмара после ухода из национального балета в возрасте около сорока лет все же получила полную пенсию, а Анджей даже хвастался тем, что ни одного дня честно не работал на красных, Романы поддерживали жесткую экономическую политику Леха Валенсы. Анджей отстаивал свою точку зрения: неважно, насколько это будет болезненным для народа. Жертвы стоят того, если они помогут Польше вернуться в западный лагерь и вырваться из московских тисков.
– Нам необходимо освободиться от этих негодяев, чего бы это ни стоило, – часто огрызался Анджей. Его паранойя в отношении русского империализма граничила с религиозной страстью. Он, как и вся старая гвардия, не верил новым хозяевам Москвы и с раздражением утверждал, что до тех пор, пока Польша не вступит в НАТО, она всегда будет легкой добычей для вечных экспансионистских махинаций Кремля.
У моей тети Дагмары, несмотря на приближающийся к полувеку возраст, сохранилась фигура танцовщицы, а ее изящно вздернутый носик неодобрительно морщился всякий раз, когда я грубо ошибался в своих не всегда уместных замечаниях относительно польской политики, что происходило довольно часто. Удивительно, насколько была политизирована Восточная Европа в начале 1990-х годов: люди наверстывали упущенное за последние десятилетия, когда у них не было свободы обсуждать, выбирать и голосовать.