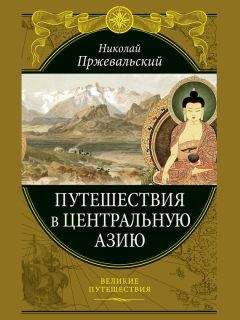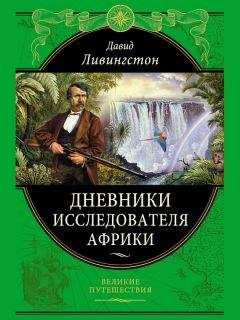От работы Жюля Верна снова отвлек театр. Начинались репетиции пьесы «Жмурки», написанной им совместно с Иньяром и Мишелем Kappe еще два года назад. Два года! Теперь эта оперетта была для молодого писателя чем-то далеким, и он радовался, скорее, за своего друга Иньяра, чем за самого себя. Он уже не искал дешевого успеха, эфемерной славы. Он чувствовал в себе пробуждение какой-то новой силы, еще не возмужавшей, быть может, но уже переделывающей всю его жизнь, ради этой главной своей работы он готов был оставаться учеником еще десять лет.
Премьера оперетты состоялась 20 апреля 1853 года. Постановка имела успех: пресса отзывалась о ней очень лестно, зрители хлопали, пьеса продержалась на сцене шесть недель. Это был успех бесспорный, гораздо больший, чем у «Сломанных соломинок»… и двадцатипятилетнего автора это не интересовало.
Весна 1853 года была в Париже шумной, и пестрой. Двор, новые богачи и новые аристократы, теснившиеся вокруг Наполеона, готовились к императорской свадьбе. «Повелитель французов», убедившись предварительно, что его сватовство будет встречено во всех европейских столицах неблагосклонно, торжественно объявил, что он решил осчастливить не принцессу крови, но простую смертную, прекрасную испанку графиню Монтихо. Праздник должен был быть пышным, с легким привкусом восточного великолепия, но, скорее, в стиле Галлана, французского переводчика «Тысячи и одной ночи», чем подлинного Востока.
Весь Париж должен был быть иллюминован разноцветными фонарями, вся столица обязана была танцевать…
И, однако, у этого пышного праздника была своя изнанка, которой не мог не видеть молодой писатель.
На парадах и дворцовых приемах красовался в шитом золотом мундире маршал Леруа Сент-Арно, но парижане хорошо помнили, что этот храбрый и жестокий генерал, прославившийся тем, что он во время покорения Алжира заживо похоронил несколько сот арабов, их жен и детей, замуровав пещеру где скрылись повстанцы, получил свой маршальский жезл не за военные подвиги, но за 2 декабря 1851 года. В памяти невольно всплывали эти незабываемые дни: гром пушек, визг картечи, баррикады на парижских окраинах, дымящаяся кровь на мостовой…
Память возвращалась назад еще дальше: к позорным дням Второй республики, возглавляемой принцем-президентом. Славные знамена французской армии, замаранные позорным походом против Римской республики, возглавляемой великими борцами за свободу итальянского народа Гарибальди и Мадзини… За походом против римской республики, задушенной 10 июня 1849 года руками французских солдат, последовал «итальянский поход внутрь страны» – удушение в стране всего живого, отмена всеобщего, избирательного права, «закон о бескровном убийстве»: о ссылке политических противников в колонии – Кайенну, Новую Каледонию, где сосланные умирали почти поголовно. «Приходится выбирать между католицизмом и социализмом», – сказал Монталамбер, защищая закон о передаче народного просвещения в руки церкви.
Принц-президент почти не скрывал своего стремления к короне. Во время смотра в Сатори кавалеристы, приветствуя главу республики, кричали: «Да здравствует император!» Пехота же маршировала молча. «Почему солдаты молчат?» – спросил будущий император. «Солдаты в строю не имеют права разговаривать!» – ответил генерал. На другой день он был смещен со своей должности…
И снова – в который раз! – всплывали в памяти дни переворота, снова беззвучно гремели в голове пушки и визжала картечь. Вспоминались улицы Парижа, отданные на разграбление пьяным солдатам, получившим по пять франков от будущего императора. Защитников республиканской конституции, скрывавшихся в лесах, искали с собаками, как дичь. В городах свирепствовали так называемые «смешанные комиссии», в которые входили генерал, префект департамента и судья. Эти комиссии имели право, без всякого суда и следствия, сослать в колонии, на верную смерть, любого француза, подозреваемого лишь в том, что он сочувствует республике. Все считалось подозрительным, даже траур: ведь трауром истинные патриоты отмечали смерть республики… Молодой Жюль Верн не мог не видеть этой страшной действительности, которая окружала его, подступала к его письменному столу и хотела завладеть его пером.
В этой страшной обстановке формировались первые, еще смутные замыслы молодого Жюля Верна Как трудно было ему найти свой собственный творческий путь, как не похож был этот окружающий его мир на ту светлую вселенную, смутное очертание которой он увидел сквозь волшебное стекло великого Сорок восьмого года!..
…Увы, в эту весну Жюлю Верну не удалось вырваться в Нант, как он рассчитывал. Театр теперь отнимал у него не только дни и вечера, но и утро – время прогулок, и даже изрядный кусок ночи – части суток, драгоценной не столько ради сна, сколько для работы. Ведь Севест не мог отстать от других театров, и не столько даже из-за бонапартистских убеждений, которых он придерживался, сколько просто из-за коммерческого расчета. Кроме того, в «Семейном музее», в июньском и июльском номерах, печатался «Мартин Пас», южноамериканская повесть Жюля Верна в двух частях, которую автор в припадке смелости наименовал «романом».
Только в августе Жюль смог буквально вырвать у Севеста три дня. Он провел их в Ла Герш, дачном пригороде Нанта. Нервы были в таком состоянии, что малейший шум приводил молодого писателя в неистовство. Он возненавидел птиц, и даже скромные трели малиновки вызывали у него желание открыть окно и крикнуть: «Да замолчишь ли ты, гадина?!»
И все же он был дома, его окружали родные, и впервые после пяти лет разлуки здесь он встретился со своим братом, товарищем детства и юности.
Поль только что вернулся из двадцатимесячного рейса по Антильскому архипелагу. Он рассказывал брату о тропических островах, где рождаются циклоны, о желтой лихорадке, о черном императоре Гаити – карикатуре на Наполеона III… За большой стол, накрытый прямо под вязами Ла Герш, уселось восемнадцать человек, из которых пятнадцать были двоюродными и троюродными братьями и сестрами; Верны, Аллоты, Тронсоны, Шатобуры. Председательствовал великолепный и веселый дядя Прюдан, который, несмотря на годы, не перестал понимать толк в вине. Но настоящими королями праздника были, конечно, молодой секретарь парижского театра и еще более молодой капитан дальнего плавания.
Память о пышных полях и светлых лугах на берегах Луары не оставляла Жюля в Париже. Быть может, отец прав, и спокойная жизнь в провинции лучше, чем эфемерное существование в столице? Ведь и в Нанте можно продолжать писать, работать для себя, не завися от парижских журналов и театров, быть может, даже забыть об императоре Наполеоне?