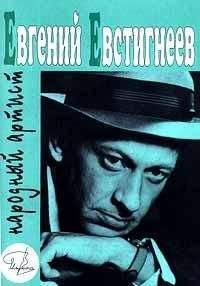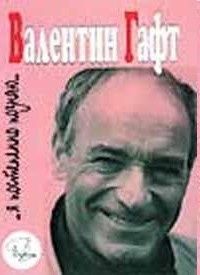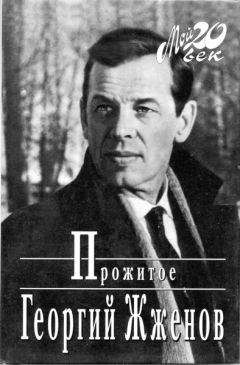Я помню, еще в студии МХАТ (а Женя был постарше других) он прекрасно фехтовал, делал стойки, кульбиты. Я обращал внимание на его замечательные мышцы, мышцы настоящего спортсмена. Руки, ноги, кисти были выразительные, порой являлись самыми важными элементами характеров, которые он создавал. Как он менял походку, как держал стакан, как пил, как выпивал, закручивая стакан от подбородка ко рту. А как носил костюм! Любой костюм! Любой эпохи! От суперсовременного до средневекового. Они на нем сидели как влитые, как будто он в них родился и никогда не расставался.
Его всегда было слышно, и всё всегда было понятно. Каким-то таинственным внутренним зрением, может быть через космос, почти мгновенно он ощущал образ того, кого играл. И что интересно, он никогда не клеил носов и ничего не утрировал, но это был всегда новый человек и всегда Евстигнеев! Ему, по-моему, иногда достаточно было одной первой читки — и он мог превратиться в человека, совсем непохожего на себя и по культуре, и по происхождению, и по интеллекту. Он был умен во всех своих ролях: играя и мудрых, и простаков. Юмор, импровизация, парадоксальность ходов и всё почти бытово, без нажима. Фантастика!!!
Он никогда много не говорил о своих ролях и вообще не тратил энергию на пустые разговоры об искусстве, о неудачах товарищей. Энергия у него уходила в работу. Поэтому он был добр и непривередлив ни в чем. Он мог есть что угодно, спать где угодно: хоть на полу в тон-ателье — я это видел сам. Когда ему что-то нравилось, он говорил: «Ну, конечно, ну, правильно». Когда не нравилось, просто: «Нет» и переходил на другую тему.
Слушая другого человека, он сразу улавливал самую суть, мгновенно видел всё. Создавалось такое впечатление, что глаза у него были на затылке и на темени. Иногда, восхищенный чем-то, порой одному ему известно чем, смахивал подступающую к глазам слезу, откашливался, как бы стесняясь своей сентиментальности, и менял тему разговора. Или просто замолкал. У него был великолепный слух — он был в молодости ударником. Был вообще похож на джазиста: мужественный, простой. Он был мужиком, мужчиной.
Помню, когда я поступил в театр «Современник» в 1969 году, первые мои гастроли были в Ташкенте. Почти все поехали на экскурсию в Бухару, а я то ли по лености, то ли по необразованности не поехал. Евстигнеев тоже не поехал. Я обрадовался, когда Женя предложил мне пообедать вместе с ним в чайхане. Меня в это время ввели на роль дядюшки в спектакль «Обыкновенная история». И после Козакова, первого исполнителя этой роли, играть было трудно, ничего не получалось. Но прежде всего, когда мы сели за столик, Женя сказал, чтобы я не очень переживал по поводу Бухары, что мы туда не поехали: «Вон видишь, киосочек стоит, „Союзпечать“ называется, — сказал он. — Так вот. Мы там купим открыточки с видами этой самой Бухары, и полный порядок. Будем знать больше, чем они». Да, ему, вероятно, с его интуицией и фантазией достаточно было и открыточки.
Налили, выпили. Женя делал это просто и красиво. Я никогда не видел его пьяным или похожим на пьяного, хотя застолье он любил. «А дядюшку играй репризно», — сказал он. «Как?» — переспросил я. «Репризно», — повторил он. При слове «реприза» всегда возникают в воображении клоуны в цирке, выкрикивающие сомнительные остроты, эхом прокатывающиеся по арене. Это совсем не сочеталось ни с МХАТом, ни со Станиславским. Я смотрел на него вытаращенными глазами. «Репризно», — снова повторил Женя. И показал прямо за столиком несколько сцен, сыграв и за дядюшку, и за племянника. Это было потрясающе! И это было именно репризно! Ярко и смешно, грустно и весело. Поклоунски, только по-настоящему. Женя точно воспринимал всё, проживал за двоих. Легко, без напряжения. Потом мгновенно, по-компьютерски перемалывал услышанное — и ответ был яркий, сочный, живой. Да, репризно, и ничего плохого тут нет! Все хорошие артисты — клоуны. Женя был клоуном великим. Повторить это я, конечно, не мог. Только теперь, спустя двадцать с лишним лет, я понимаю, что это значило.
Он любил мои эпиграммы: записывал себе на магнитофон, почти все знал наизусть. Понимал, что я их пишу не со зла, — они другими и быть не могут.
Он был всегда сдержанным, жаловаться не любил, всё носил в себе. Была слава, но жизнь была совсем не проста…
И что самое странное и удивительное: не складывалось в театре — во МХАТе. Выражаясь футбольным языком, МХАТ недооценивал возможности центрального форварда, ставя его в полузащиту или просто не заявляя его на игру. И пошли инфаркты, один за другим.
Смею сказать, что он меня любил. Однажды, на съемках фильма «Ночные забавы» — а это был его последний фильм, который вышел за месяц до Жениной кончины, — он сказал мне в костюмерной, завязывая галстук, тихо, как будто самому себе: «Понимаешь, я сегодня эту сцену не смогу сыграть как надо. Там всё проходит через сердце, а я, понимаешь, боюсь его сильно перенапрягать. Боюсь, черт возьми». Но играл он сердцем, до мурашек. По-другому он не мог. Он был великий артист…
…Машина заезжала за мной, потом мы ехали за Женей к Белорусскому — оттуда ближе к Останкино. Женя уже стоял у дома, всегда вовремя: в кепочке, в спортивной курточке, элегантный, молодой, с сумкой наперевес.
НА СМЕРТЬ АЛЕКСЕЯ ГАБРИЛОВИЧА
Живых всё меньше в телефонной книжке,
Звенит в ушах смертельная коса,
Стучат всё чаще гробовые крышки,
Чужие отвечают голоса.
Но цифр этих я стирать не буду
И рамкой никогда не обведу.
Я всех найду, я всем звонить им буду,
Где б ни были они, в раю или в аду.
Пока трепались и беспечно жили —
Кончались денно-нощные витки.
Теперь о том, что недоговорили,
Звучат, как многоточия, гудки.
Но мир — не плод воображенья,
Здесь есть земные плоть и кровь,
Здесь гений есть и преступленье,
Злодейство есть и есть любовь.
Всем известно, Жизнь — Театр.
Этот — раб, тот — император,
Кто — мудрец, кто — идиот,
Тот — молчун, а тот — оратор,
Честный или провокатор,
Людям роли Бог дает.
Для него мы все — игрушки,
Расставляет нас с небес…
Александр Сергеич Пушкин,
А напротив — Жорж Дантес!
* * *
У лживой тайны нет секрета,
Нельзя искусственно страдать.
Нет, просто так не стать поэтом.
Нет, просто так никем не стать…
Кто нас рассудит, Боже правый,
Чего ты медлишь, что ты ждешь,
Когда кричат безумцы: «Браво!» —
Чтоб спели им вторично ложь.
И есть ли истина в рожденьи,
А может, это опыт твой,
Зачем же просим мы прощенья,
Встав на колени пред Тобой?
И, может, скоро свод Твой рухнет,
За всё расплатой станет тьма,
Свеча последняя потухнет,
Наступит вечная зима.
Уйми печальные сомненья,
Несовершенный человек,
Не будет вечного затменья,
Нас не засыплет вечный снег.
И просто так не появилась
На свете ни одна душа.
За всё в ответе Божья милость,
Пред нею каемся, греша.
Но мир — не плод воображенья,
Здесь есть земные плоть и кровь,
Здесь гений есть и преступленье,
Злодейство есть и есть любовь.
Добро и зло — два вечных флага
Всегда враждующих сторон.
На время побеждает Яго,
Недолго торжествует он.
Зла не приемлет мирозданье,
Но так устроен белый свет,
Что есть в нем вечное страданье,
Там и рождается поэт.