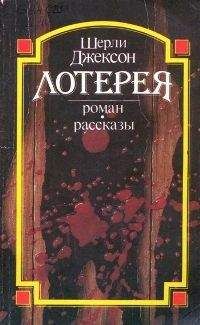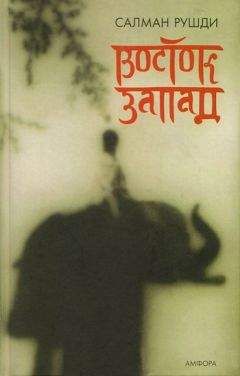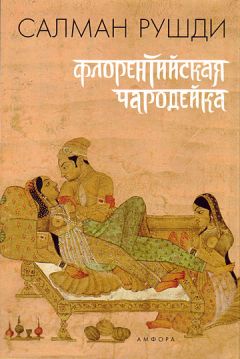шкуру. Как там сказал Трусливый Лев? Давай-ка. Давааааааай. Я справлюсь с тобой одной левой. Справлюсь с закрытыми глазами.
Струсил, а? Струсил?
* * *
Большой зал Аукциона трепещет – сейчас он сердце Земли. Кто стоит здесь давно, тот видел все чудеса на свете. За последние годы в Большом зале ушли с молотка Тадж-Махал, статуя Свободы, Сфинкс и Альпы. Мы видели, как продавали жен и покупали мужей. Государственные тайны шли по самым высоким ставкам. А один раз, в виде исключения, по заказу нескольких красных общеконфессиональных демонов, исходивших таким жаром, что над ними вился дымок, выставили на продажу полный набор человеческих душ разного достоинства, разных национальностей, разной классовой принадлежности, возраста, а также вероисповедания.
На торгах выставляется все, и мы, под твердым, но благожелательным руководством устроителей Аукциона, под присмотром их верных псов, сотрудников безопасности вкупе с полицейскими отрядами специального назначения, начинаем войну нервов и охотно вступаем в соревнование, где состязаются мозги и бумажники.
В этом нашем аукционе есть чистота действа, есть приятное эстетико-драматическое противоречие между бесконечным разнообразием жизни, которую здесь сортируют по лотам и пускают под молоток, и не менее бесконечной простотой однообразия, с коей мы здесь обращаемся с жизнью.
Мы делаем ставку, стучит молоток, и все переходят к следующему лоту.
Все равны перед молотком: уличный живописец и Микеланджело, рабыня и королева.
Здесь дворцовые Залы желаний.
* * *
Подошла очередь башмачков. Цена растет, и вместе с ней растет моя жадность. Накатывает паника, тянет вниз, я захлебываюсь ею. Думаю о Гейл – кузина ты моя! – отбрасываю страх и делаю ставку.
* * *
Однажды один мой овдовевший знакомый, чья жена была певицей, всемирно известной, обожаемой поклонниками, предложил мне поработать для него на аукционе, где он выставил рок-реликвии. Этот вдовец был единственным опекуном состояния, оцененного в десять миллионов. Я отнесся к его предложению с большим почтением.
– Меня интересует только один лот, – сказал он. – Денег не жалейте, тратьте сколько угодно.
Этим лотом оказалась деталь одежды – съедобные трусики из рисовой бумаги с ароматом мяты перечной, купленные много лет назад в магазине на Родео-драйв (кажется, там, не перепутал). Сценарий ее концертов предусматривал публичное снятие и съедение нескольких пар за вечер. Еще сколько-то пар, с различными ароматизаторами – маниок, взбитые сливки, шоколадная стружка – певица бросала в толпу. В толпе их ловили и тут же съедали, слишком взволнованные сим действом, чтобы сообразить, насколько ее бельишко поднимется в цене через некоторое время. Трусов, поскольку певица носила их не только на концертах, сохранилось действительно немного, и спрос на этот лот был большой.
Ставки на том аукционе по видеомостам поступали из Токио, Лос-Анджелеса, Милана и Парижа и поднялись так, что я струсил и выбыл из игры. Я позвонил нанимателю с тем, чтобы об этом доложить, а в ответ услышал, как он невозмутимо спросил про последнюю цену. Я назвал пятизначную цифру, и он рассмеялся. Я не слышал от него такого чистого, такого веселого смеха с тех пор, как умерла его жена.
– Все в порядке, – сказал вдовец. – Я уже заработал на них триста тысяч.
* * *
Именно на Аукционе устанавливается истинная цена нашего прошлого, будущего и всей нашей жизни.
* * *
Цена рубиновых башмачков продолжает расти. Многие здесь ставят не для себя, как я в тот памятный День Трусиков, и далеко не в последний раз.
Сегодня я впервые делаю ставку для себя (или почти буквально: на себя).
На улице что-то взорвалось. Из зала мы слышим топот ног, вой сирен и крики. Мы к такому привыкли. Мы стоим себе как стояли, поглощенные созерцанием действа высшего порядка.
Плевательницы полны. Ведьмы плачут, потускневшие ауры кинозвезд начали осыпаться. Очереди безутешных стоят к кабинкам, где сидят психиатры. Хватает дела и стражам порядка, и только акушерам пока нечем заняться. Порядок достигнут. Я последний и единственный в зале, кто продолжает делать ставки. Мои соперники – бестелесные головы на телеэкранах и беззвучные голоса в телефонных трубках. Я сражаюсь с миром невидимых демонов и призраков и жду в награду руки дамы сердца.
* * *
В разгар борьбы, когда деньги становятся лишь средством вести счет, происходит некое странное событие, на которое я, однако, не желаю обращать внимания: я отрываюсь от земли.
Сила гравитации исчезает, уступая место невесомости, я поднимаюсь в воздух и парю в капсуле своей страсти. Конечная цель – за гранью разумного. Достижение ее, равно как и выживание в этой битве, становится – да-да! – частью фантазий.
Тогда как сами по себе вымысел и фантазии – как я отмечал – в высшей степени небезопасны.
Захваченные своими фантазиями, мы способны заложить дом, продать детей, только чтобы получить желаемое. Но бывает и так, что, оказавшись посреди миазмов этого океана, можно легко отплыть от него в сторонку, издалека увидеть заново и понять, насколько он банален и неинтересен. Мы отпускаем его. Будто путник, застигнутый метелью, ложимся на снег отдохнуть.
* * *
Вот так вот и я, пройдя горнило Аукциона, вдруг чувствую, что меня перестала держать рука Гейл. Так вот и я оставляю схватку, иду домой и падаю спать.
Проснувшись, я чувствую себя отдохнувшим и совершенно свободным.
* * *
На следующей неделе начнется новый Аукцион. С молотка пойдут фамильные древа, гербовые свитки, где между королевскими именами можно вставить любое имя, хоть свое, хоть кого-нибудь из родных. Полагают, что там же будут “Педигри канин” и “Педигри фелин”, иначе говоря, родословные разного рода собачьих и кошачьих: эльзасцев, бирманцев, салуки, сиамцев, а также египетских терьеров.
И, благодаря бесконечному великодушию устроителей Аукциона, каждый из нас, будь то кошка, собака, мужчина, женщина или ребенок, сможет испытать райское блаженство, став особой голубой крови или тем, кем пожелает, ибо все мы, забившиеся в своих норах, более всего на свете боимся, что так и остались никем.
Христофор Колумб и королева Изабелла Испанская улаживают отношения в Санта-Фе. Год 1492 после Рождества Христова
Иностранец Колумб вслед за королевой идет в вечность, до конца сохраняя надежду.
– Как он выглядит?
Гордый, но все же проситель; высоко держит голову, но часто ее склоняет. Бесстрашный, он не стыдится заискивать перед сильным; дерзкий, порой даже грубый, завоевывает сердца благодаря обаянию и становится фаворитом. Разумеется, с возрастом Колумбу кланяться приходится чаще, независимость вольного волка поистерлась до дыр. Как и его башмаки.
– Он надеется? На что он надеется?
Начнем с очевидного. Колумб надеется подняться