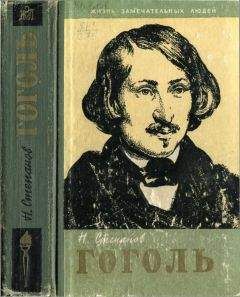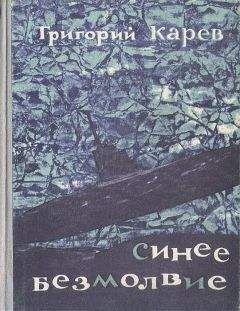Мертвенная рутина провинциального быта все более и более тяготила юношу, воодушевленного стремлением принести пользу человечеству, с восторгом читавшего Шиллера и Жуковского. В письме от 26 июня 1827 года к Герасиму Высоцкому, который к этому времени обосновался в Петербурге, он жаловался: «Уединясь совершенно от всех, не находя здесь ни одного, с кем бы мог слить долговременные думы свои, кому бы мог выверить мышления свои, я осиротел и сделался чужим в пустом Нежине. Я иноземец, забредший на чужбину искать того, что только находится в одной родине, и тайны сердца, вырывающиеся на лице, жадные откровения, печально опускаются в глубь его, где такое же мертвое безмолвие».
Эта внутренняя отчужденность, замкнутость в своем духовном мире впоследствии стали источником одиночества писателя, трагической ущербности его последующей жизни. Но сейчас он мечтает о столице, о том, чтобы выбраться из ставшего ему чуждым Нежина. «Уже ставлю мысленно себя в Петербурге, — продолжал Гоголь свое письмо, — в той веселой комнатке окнами на Неву, так как я всегда думал найти себе такое место. Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду ли я точно живать в этаком райском месте или неумолимое веретено судьбы зашвырнет меня с толпою самодовольной черни (мысль ужасная!) в самую глушь ничтожности, отведет мне черную квартиру неизвестности в мире».
В начале мая 1827 года Билевич затеял очередную кляузу и написал в конференцию — ученый совет гимназии — обширный и обстоятельный донос о замеченных им непорядках. Донос состоял из множества пунктов, в которых подробнейшим образом излагались безнравственные поступки учащихся и проявления «вольнодумства» в гимназии.
Объединяя свои собственные «наблюдения» и дошедшие до него слухи, блюститель благочиния и законопослушания сообщал, что «некоторые ученики из пансионеров проигрывали в городе в карты шинели или, проигравшись в карты и не имея чем заплатить, постыдно уходили». Он и сам был свидетелем их не-благонравия: «Идучи мимо гимназии в гимназический сад, — жаловался Билевич, — где многие посторонние лица находились, к моему неудовольствию, слышал неблагопристойные в музеях крик и пение не приличных им песен». Во всем этом он винил инспектора Белоусова, якобы потакающего ученикам и поощряющего их к непослушанию.
Но главное обвинение заключалось в политической неблагонадежности как учащихся, так и ряда преподавателей. «Равномерно необходимою обязанностью для себя поставляю, — лицемерно сообщал доносчик, — как старший профессор юридических наук, сказать, что я приметил у некоторых учеников некоторые основания вольнодумства, а сие, полагаю, может происходить от заблуждения в основаниях права естественного, которое, хотя и предписано преподать здесь по системе г-на Демартини, он, г-н младший профессор Белоусов, проходит оное естественное право по своим запискам». Здесь уже прямо наносился жестокий удар по Белоусову, которому Билевич смертельно завидовал и которого ненавидел. Донос был подписан полным титулом — «надворный советник Михайла Васильев Билевич» — и датирован: «Мая 7-го дня 1827 года».
Донос Билевича возымел свое действие. На основании его возникло «Дело о вольнодумстве», которое дошло до попечителя Харьковского учебного округа, а затем и до министерства просвещения и 3-й его императорского величества «канцелярии. Вновь назначенному директору гимназии Ясновскому дано было указание расследовать положение на месте, что он и стал выполнять с должным усердием и пристрастием.
С прибытием Ясновского в Нежин в октябре 1827 года следственная машина быстро завертелась. Искатель чинов и карьеры, Ясновский развил самую активную деятельность, чтобы выявить крамолу и обличить в неблагонадежности передовых профессоров, в первую очередь особенно ненавистных реакционерам Белоусова и Шапалинского. Большой опыт канцелярских интриг и кляуз теперь ему весьма пригодился. Не гнушаясь доносами, запугиваниями, подтасовкой фактов, он с помощью профессора Билевича и законоучителя Волынского энергично принялся за ведение следствия. «Дело о вольнодумстве» разрасталось все шире и шире, вбирая в себя десятки допросов, доносов, протоколов, резолюций. Они подшивались в толстые папки и заполняли длинные полки канцелярских шкафов.
От профессора Белоусова затребованы были объяснения, а от учеников — тетради с записями лекций по естественному праву. Представленные материалы не удовлетворили дирекцию. Клеветник Билевич заявил, что Белоусов отбирал у учеников тетради и вносил в них исправления, чтобы избежать обвинения в распространении вредных идей. Билевич раздобыл якобы подлинные записи лекций Белоусова и в очередном донесении сообщил, что они «преисполнены таких мнений и положений, которые неопытное юношество действительно могут ввести в заблуждение». Эти записи конференцией были препровождены на отзыв законоучителю. Волынскому, который, в свою очередь, усмотрел в них множество опасных и безбожных суждений.
— Подумать только, — возмущался раздраженный батюшка, — этот вольтерьянец утверждает богопротивные мысли! Говорит, что человек имеет право быть таким, каким образовала его природа! А про господа бога забыл? Даже не упоминает, что человек сотворен господом по-своему подобию!
Директор Ясновский предпринял поголовный допрос учащихся. Большинство гимназистов дало благоприятные для Белоусова сведения; они утверждали, что в свои записи по естественному праву включали собственные заметки и дополнения из разных прочитанных ими книг.
В ноябре 1827 года на конференцию был вызван и ученик девятого класса Гоголь-Яновский. Входя в актовый зал, он увидел за столом, покрытым красным бархатом, торжественно восседавшего директора в мундире и при всех орденах. Рядом с ним расположился краснорожий отец Павел, сияя большим нагрудным крестом. Тут же находился и Билевич, который облокотился на край стола и, нахмурившись, вполголоса сообщал что-то директору.
— Как нам стало известно, — важным, бесстрастным тоном обратился к Гоголю Ясновский, — вам принадлежит эта тетрадь по истории естественного права. Ученик Кукольник показал, что его тетрадь списана с вашей по приказанию профессора Белоусова.
Гоголь разгадал замысел Ясновского. Тому хотелось, чтобы он признал тождественность своих записей с лекциями Белоусова. Задыхаясь от волнения, Гоголь твердо заявил:
— Да, это моя тетрадь, которую я отдавал в пользование Кукольнику, Однако объяснение о различии права и этики Николай Григорьевич делал по книге Демартини.