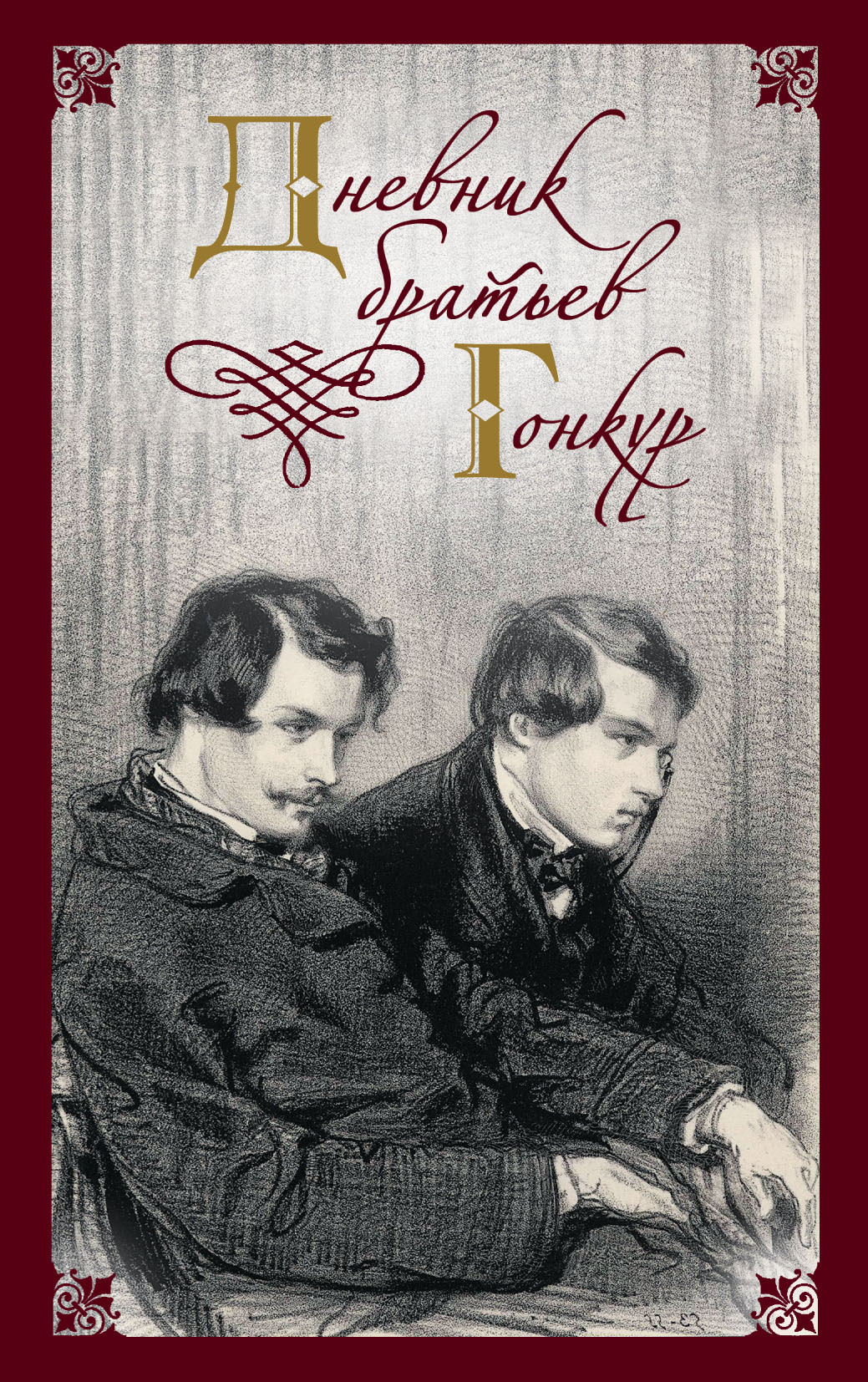всей рощи и потухает. Еще один слабый крик – и всё замолкло.
Тогда в глубоком тумане сумерек погружается во тьму все неизвестное, таинственное, вся волнующая неопределенность форм. Кругом царит молчание. Хищные птицы с глухим стуком крыльев опускаются на сучья больших деревьев – как густые хлопья снега. На небе нет уже ни света, ни тени, и на этом глубоком фоне деревья с бесчисленными своими ветвями вытягиваются, как громадные змеи Горгоны.
13 января. Сколько часов десять лет тому назад, сколько часов смотрели мы в Уффици примитивистов: созерцали этих женщин, эти длинные шеи, эти невинные, выпуклые лбы, эти глаза в темных кругах с узкими, длинными разрезами, эти ангельские и змеиные взгляды из-под опущенных век, эти черточки мучений и худобы, эту тонкую заостренность подбородка, эти огненно-рыжие волосы, по которым кисть протянула нити золота, эти бледные краски кожи, расцветшей в тени комнат, эти полутени, слегка затемненные зеленоватым и как бы помещенные в прозрачность воды, эти тонкие, страдальческие руки, на которых играют восковые огоньки, – весь этот музей болезненных ликов, который под маской наивного искусства показывает рождение Грации.
Упиваться этими улыбками, этими взглядами, этим томлением, этими красками, созданными для того, чтобы писать идеальное – было очарованием тех дней… Нас каждый день тянуло к этим розовым и голубым, к этим небесным одеждам.
Великая и совершенная живопись, зрелые шедевры не оставляют в вас такой отчетливой памяти о лицах: только эти женщины привязываются к вам как память о людях, встреченных в жизни. Они вновь и вновь являются к вам, как голова покойницы, которую вы раз увидели освещенную и озолоченную умирающим пламенем восковой свечи.
1 февраля, среда. Сегодня вечером у принцессы полон салон писателей, между ними и Дюма-отец.
Это какой-то поистине великан с курчавыми волосами цвета «перца с солью», с маленькими глазками бегемота, светлыми, хитрыми и бойкими, даже когда они полузакрыты; черты огромного лица похожи на те неопределенно округленные черты, которыми карикатуристы рисуют луне человеческое лицо. Речь обильная, но без большого блеска, без едкости ума, без колоритности слова; всё только факты, которые он своим хриплым голосом добывает из глубин чудовищной памяти. И всегда, постоянно говорит о себе, но с тем тщеславием добродушного ребенка, которое не имеет в себе ничего раздражающего. Так, например, он рассказывает, что его статья о Горе Кармель дала монахам 700 тысяч франков [52].
Он не пьет ни вина, ни кофе; он не курит; это воздержанный атлет фельетона и писательства…
Победитель перешейка Лессепс, с его жгуче-черными глазами под серебристыми волосами, только что прибыл из Египта и обедает с нами [53]. Он сознается – он, человек такой неукротимой воли! – что отступал много раз в жизни, следуя совету одной гадалки с улицы Тур-нон, преемницы девицы Ленорман.
* * *
Следовало бы изучать на примере ребенка происхождение общества. Ребенок – это начинающее человечество, дети – первые люди.
8 февраля. Обед у Шарля Эдмона с Герценом [54].
Маска Сократа, теплый, прозрачный тон кожи, как на портретах Рубенса; между бровей красная отметина в виде клейма, седеющие волосы и борода. Он говорит, и время от времени в его горле рождается гортанный иронический смешок. Голос у Герцена мягкий, меланхолически-музыкальный и не имеет той звучности, которой можно было бы ожидать при таком массивном сложении. Мысли тонки, изящны, отточенны, иногда даже изощренны, но всегда освещаются словечками, которые являются не скоро, однако нравятся всем, как вообще нравятся выражения умного иностранца, говорящего по-французски.
Герцен рассказывает о Бакунине, о том, как тот просидел одиннадцать месяцев в тюрьме, о его бегстве из Сибири по Амуру, о его странствовании через Калифорнию и приезде в Лондон, где, проплакав несколько мгновений в объятиях Герцена, он бодро поинтересовался, где тут можно поесть устриц.
Герцен приводит нам черты, рисующие Николая I воплощением военной дисциплины. После взятия Евпатории государь прохаживался как-то по дворцу своими каменными шагами статуи Командора, вдруг подошел к солдату на карауле, вырвал у него ружье, бросился против него на колени и крикнул: «На колени! Помолимся о победе!»
Мы много беседовали о нравах Англии, которую Герцен любит как страну свободы, и слушали любопытные о ней анекдоты. Слуга-англичанин, которого Тургенев поместил в семействе Виардо, на вопрос, отчего он ушел от них, дал следующий прекрасный ответ: «Это люди не комильфо! Не только жена, но даже муж позволяет себе разговаривать со мной за столом!»
Пока мы стараемся разобраться в характерах двух народов – англичан и французов, – Герцен говорит: «Знаете, один англичанин недурно определил оба характера. "Француз, – сказал он, – с жаром ест холодную телятину, а мы едим холодно даже горячий ростбиф"».
17 февраля. В прошлом году, когда у Флобера обнаружили фурункулы, Мишле говорил одному из его друзей: «Пусть не лечится, а то пропадет талант». Это, может быть, великая мысль. Не знаю, кто сказал, что Наполеон, после того как вылечился от чесотки, не выиграл уже ни одного сражения. А терпкость крови у Шамфора, верно, была причиной остроты его ума.
Фремье, известный скульптор, рассказывал мне, что Рюд ставил иногда в шутку рядом с конской головой Фидия голову извощичьей лошади и доказывал, что нет никакой разницы, но голова извощичьей лошади красивее [55]. Рюд утверждал, что греки, великие художники, прямо подражали природе, но нисколько не заботились об идеальном, не гонялись за ним.
16 марта. Сердце не родится вместе с человеком. Ребенок не знает, что такое сердце. Этим органом человек обязан жизни. Ребенок не видит, не любит никого, кроме себя: это самый чудовищный, самый невинный, самый ангельский эгоист.
20 мая. Сегодня вечером через калитку в деревянной изгороди, обвитой зеленью, мы входим в большой дом, на улице Вожирар. Мы у Турнемина [56].
Веселый нижний этаж дома полон нарядных акварелей, небольших картин, писанных друзьями, изящного восточного оружия. В маленьких витринах – переливы шелковых тканей чудных красок, кофт и жилетов турецких женщин с рядами золотых пуговиц, в которые вставлены жемчужины: целый маленький музей восточных сувениров.
Живописец Азиатской Турции согласен показать нам, для нашего будущего романа, письма, написанные им жене, и она приносит связку этих замечательных больших писем, которые имеют такой почтенный вид благодаря десятку наклеенных на них марок. Она тут же, при нас, начинает перечитывать их и счастлива тем, что вспоминает радости их получения: выпуклый ее лоб, пухлые щечки, кроткие глаза, доброе, приветливое лицо освещаются, помимо двух ламп, внутренним светом. В некоторых местах воспоминания заставляют сердце