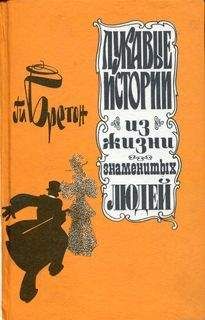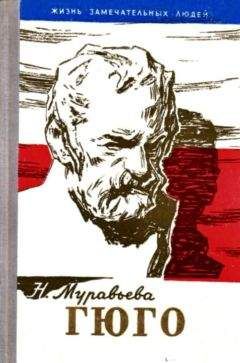В другой раз Мериме организовал танцульки под механическое пианино, ручку которого крутил Наполеон III. Делал он это рывками, в результате чего танцоры сбивались с ритма...
Мериме был немногословен. С несколько презрительной улыбкой он слушал лицемерных и глупых придворных, которых было в избытке, в императорских дворцах. За ним утвердилась репутация жестокого острослова, его высказывания зачастую были неслыханно дерзкими, он не щадил никого и ничего.
Вот некоторые из них:
«К принцессе Матильде можно войти в халате. Правда, есть риск, что вам не удастся выйти...»
«Двору не нужны гении. Здесь все зависит от императрицы. У нее есть выбор между дюжиной глупцов и одним умным человеком. В конце концов она допускает ко двору всех. Правда, через какое-то время умный непременно попадает в немилость...»
«Вам, конечно, известно, что, когда в кругу семьи рассказывают фривольные анекдоты, молоденьких девушек просят выйти. В Компьене же за дверь выставляют меня, когда я собираюсь рассказать что-нибудь подобное. После чего все умирают от скуки!»
«Королям весьма опасно обнажать свою суть. Когда я бываю невольным свидетелем этого, я стараюсь сразу же забыть о случившемся, чтобы сохранить уважение к ним».
«Если бы военные не были такими красавцами, их глупость сразу же бросалась бы в глаза. Умные не бывают настоящими военными».
«Вас не пугает, что слугами правосудия зачастую становятся те, чьи достоинства измеряются главным образом успехами на экзаменах?»
«Когда бы кто ни просил аудиенции у императора, он всегда «отсутствует». Для него это способ существования. Он неплохо устроился с этим вечным «отсутствием»!»
В ответ на вопрос, что могло бы выйти из брака Оффенбаха с мадам де Кастилионе, Мериме заявил:
— Над этим должны задуматься ученые-натуралисты.
И вот, наконец, высказывание, характеризующее Мериме как непочтительного придворного и талантливого мистификатора:
«Для меня нет большего удовольствия, чем в беседе с людьми, считающими себя всезнайками, с воодушевлением говорить о знаменитости, которая никогда не существовала».
РАБЛЕ БЫЛ СОВСЕМ НЕ ПОХОЖ НА СВОИХ ГЕРОЕВ
Однажды, когда я поднимался по сплошь покрытому виноградниками холму Шинона, зеленеющему под ярким апрельским солнцем, мне в голову пришла безумная идея, которая, может быть, вызвала бы удивление у благочестивых обывателей, но наверняка пришлась бы по душе беззаботным весельчакам и прожигателям жизни, любителям хорошо поесть и пропустить стаканчик-другой, то есть тем, которые меня обычно и читают.
В связи с 400-летием со дня смерти создателя незабываемых образов Гаргантюа и Пантагрюэля мне захотелось взять у него интервью и расспросить поподробнее о его «раблезианской» жизни монаха-расстриги, врача—последователя Гиппократа, обжоры, любителя выпить и поволочиться за юбками...
Вот почему с блокнотом в руке я приехал в Девиньер — в обветшалый от времени небольшой домик, в котором почти пять столетий назад появился на свет и зашелся в крике метр Франсуа Рабле.
Для общения с этим безудержным весельчаком не нужны ни вертящиеся столы, ни вызывание духов, ни другие оккультные приемы. Достаточно зайти к нему в дом.
... Я поднимаюсь по каменной лестнице его дома, и вот великий метр передо мной. Подпоясанный веревкой, в одежде францисканского монаха он сидит за столом, перед ним два кубка и кувшин с вином.
— Кто там? спрашивает он.
Я представляюсь, и он впадает в безудержное веселье.
— Газетчики, фельетонисты и другие писаки могут чувствовать себя в Девиньере, как у себя дома. Выбирайте табуретку по своей заднице, садитесь и отведайте этого божественного молодого вина.
Он наливает мне полный кубок, мы чокаемся и пьем... При этом Рабле причмокивает от удовольствия.
— Неплохое мочегонное! Да? Что вы скажете?
Похвалив вино, я осторожно сообщаю ему о том, что приехал расспросить его о житье-бытье.
— Сгораю от нетерпения,— захохотав, сказал он,— как девка в ожидании любовных утех...
И тогда я сообщил метру, что собираюсь написать статью о его жизни.
— Наверное, вы живете очень весело, метр Франсуа?— спросил я.— Был бы рад услышать от вас несколько занятных историй.
— Тра-та-та-та-та,— внезапно рассвирепев, заорал он.— Только безмозглому ослу могло прийти такое в голову. Я и так сыт по горло россказнями о моей веселой жизни. Легенды о ней — бред сивой кобылы. Оставьте это для кумушек и сплетниц, тех, кто ничего не знает обо мне и судит по Гаргантюа, Грангузье и Пантагрюэлю. Они думают, что метр Рабле только и знает, что пить, жрать и забавляться с девками. К тому же, по их мнению, он еще жулик, неотесанный коновал и вообще шут гороховый...
— Если это не так, то буду рад услышать от вас истину, метр.
Рабле вновь наполнил кубки, залпом осушил свой, вытер рот рукавом и начал рассказ:
— Именно здесь, в этой самой комнате я и родился в одно прекрасное утро 1494 года. Это был загородный домик моего отца, известного в Шиноне адвоката Антуана Рабле, который приезжал сюда отдохнуть от городской суеты, проветрить мозги, забитые разной судебной глупостью, и проследить, чтобы крестьяне, арендовавшие у него виноградники, не надули его.
Подмигнув, он опять налил себе вина и продолжал:
— Мое детство прошло в Шиноне, где я, как и другие дети, чувствовал себя свободным, словно птица. Но в возрасте, когда другие разгуливали с девицами по полям и лесам, находя себе приют под каждым кустом, отец отправил меня в францисканский монастырь Сеюй, недалеко отсюда, где монахи бражничали, вместо того чтобы постигать цицероновскую латынь, и преуспели в этом куда больше, чем в молитвах. Чудом мне удалось усвоить азы латыни и начать калякать на ней. Но делал я это, как желторотый юнец, впервые дорвавшийся до бабы, то есть плохо. Потом я ушел в монастырь де ла Бомет, неподалеку от доброго города Анжера.
— Вы мечтали стать монахом?
— Безусловно, меня влекло к теологии так же сильно, как к хорошему вину,— сказал Рабле, вновь наполнив кубок и осушив его.— Пришло время, и я принял духовный сан. Вскоре перешел в кордельерское аббатство Фонтене-ля-Конт. Там стал изучать греческий язык, звучавший для меня, как лютня.
— В это время вы, конечно, были веселым, беззаботным учеником, любившим пошутить над своими учителями и пропустить стаканчик-другой в компании красоток?
— Ничего подобного! С чего вы это взяли? Такую жизнь вели балбесы-монахи, путавшиеся с девками и таскавшиеся по кабакам. В отличие от меня, без устали корпевшего над переводами Гомера и Пифагора, их не влекло в храм науки. Эти невежды, совсем не утруждавшие себя работой и помышлявшие лишь о том, как бы набить свою утробу, болваны и тупицы, всячески потешались над моей страстью к изучению трудов великих ученых. Когда вечерами, горланя похабные песни, они шли пьянствовать и развратничать в ригу, я оставался в своей келье и при мерцающем тусклом свете свечей переводил «Илиаду».