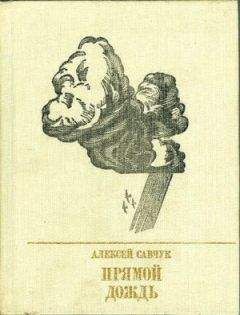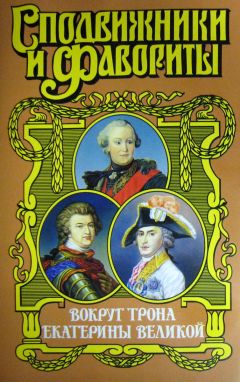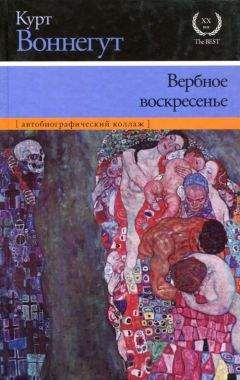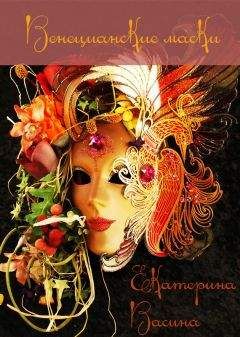Щитки не были рациональной необходимостью тюремного устройства, как, например, решетки, преграждавшие путь к бегству: они были лишь способом морального угнетения.
— Вы готовы и глаза нам завязать, — сердито бросил он начальнику тюрьмы, когда тот вошел в камеру.
— Вы о чем?
— О щитках на окнах.
— О щитках… Они нам не мешают.
— Но они мешают нам. Мы требуем убрать щитки!
— Что? — удивился начальник. — Кто это — мы?
— Люди, которых незаконно бросили за решетку.
— Вот что, парень, мы тебя сюда не приглашали. А щитки были и будут.
— Нет, не будут! — уверенно заявил Петровский, чем немало озадачил начальника тюрьмы.
— Гм… — пожал он плечами и вышел.
Мысль о голодовке возникла у Петровского в тот момент, когда начальник тюрьмы отказался снять щитки.
Началось перестукивание с соседями, пошли из камеры в камеру записки: их передавали в крышках чайников, которые разносили уголовники. Они вообще охотно выполняли мелкие услуги за табак и папиросы, которых не получали от тюремной администрации. Все политические, сидевшие в одиночках, согласились на голодовку.
Однажды вернули свой завтрак, потом обед, не прикоснулись к ужину. На другой день в камеру Петровского прибежал начальник тюрьмы:
— Я знаю: это все исходит от вас. Немедленно прекратите голодовку!
— Уберите щитки и разрешите получать книги!
— Слишком многого требуете…
— Что ж, будем голодать…
— Молодой человек, — сказал начальник тюрьмы, стараясь придать своему голосу мягкость, — ну зачем вам это?
— Я не могу разговаривать, мне нужно экономить силы, — тихо ответил Петровский.
На цементном столике дымился суп, заправленный салом с луком: наверно, администрация специально приказала сварить вкусный обед. А может, он казался таким от нестерпимого чувства голода: Григория подташнивало от запаха пищи. Он отвернулся к стене и старался ни о чем не думать. Но легко сказать — ни о чем не думать!
Исчезло ощущение времени. Пришел прокурор, в чем-то убеждал, но до слуха долетали лишь отдельные слова, смысл которых до него не доходил. Вчера был вице-губернатор, позавчера — начальник тюрьмы, сегодня — прокурор… Он прекрасно знает почему: они все уговаривают прекратить голодовку. Но о щитках ни слова… Уже заболел Крамаренко, и его перевели в больницу… «Да, да, они испугались. Мы добьемся своего! Ведь другие добивались. Надо экономить силы, ведь неизвестно, сколько еще придется голодать…»
И в тюрьме, оказывается, бывает радость!
После тяжелого ночного сна Григорий открыл глаза и зажмурился от яркого света. Неужели убрали ненавистный щиток?! Вскочил с койки, но ослабевшие ноги не слушались. Медленно, собрав все силы и держась за стену, приблизился к окну.
Звякнул засов, отворилась дверь, надзиратель — старик с большими жилистыми руками — принес миску с супом.
— Ешь, сынок, — сказал тихо. — Только не торопись и не все сразу. — Он не раз за свою службу видел, как набрасывались на еду после голодовки заключенные и от этого погибали.
— Я знаю, спасибо, — поблагодарил Григорий.
Казалось, ничего не ел вкуснее этого жидкого картофельного супа. От него пахло свежим хлебом, печенной в золе картошкой, родным домом.
Съел половину и положил ложку.
Добрел до окна и долго любовался ясным небом, которого так давно не видел. Когда оно над тобой, его вроде и не замечаешь, если же тебя лишают его — высокого, необъятного, начинает казаться, что и жить невозможно. Без конца вспоминаешь задумчивые белые облака, дрожащую точку жаворонка, солнце, слепящее глаза, черные грозовые тучи.
В сердце бурлила радость… Они, простые рабочие, победили! Администрация тюрьмы, боясь очередного организованного протеста, сняла щитки с окон и разрешила передавать в камеры литературу. Значит, если действовать сообща, вместе, можно добиться многого. Крепла вера в свои силы.
Время шло, и стало ясно: скоро не выпустят. Петровский ежедневно писал жалобы в Петербург, в департамент полиции, требуя объяснить, за что он арестован.
Вечером взялся за письмо к Доменике. Его все время тревожила судьба жены: как она там с малышом? Конечно, помогут товарищи, но ведь самые близкие, вероятно, тоже за решеткой. Знал, что Доменика не пропадет, но как же ей, бедной, трудно! Хоть угля успел заготовить, не будут мерзнуть зимой. «Мое воображение так ярко рисует твой образ, — писал Петровский, — что я почти физически ощущаю твое присутствие, твое теплое, нежное сердце. Спасибо!..»
20
Весть о голодовке, о стойких узниках, о самом молодом из них — Петровском — проникла сквозь тюремные стены, разнеслась по городу и взволновала молодежь. Одни возмущались поступком «крамольников», другие восхищались. Одобрение и порицание шли рядом, как жизнь и смерть…
Евгений прислушался. В соседней комнате играли на пианино. Он понял, что играет Лариса, племянница полтавского городского головы, жившая в доме своего дяди, и старался угадать, что она исполняет, но не мог: вероятно, это была импровизация. Весь жар юной души, всю глубокую нежность, неясные желания и стремления, что-то тревожное, радостное и печальное вкладывала она в свою музыку.
Вдруг наступила тишина, чуть слышно стукнула крышка фортепьяно. В гостиную вошла Лариса — красивая девушка лет семнадцати, с тяжелой русой косой, уложенной веночком, в легком светлом платье.
— У вас настоящий талант! — восторженно произнес Евгений, идя ей навстречу.
— Что вы… — смутилась Лариса. — Расскажите лучше, что нового…
— Новостей много… Даже слишком много для нашего тихого, маленького городка. И самая животрепещущая — победа политических заключенных. Если бы вы видели, кто победил наших суровых стражей закона! Простые фабрично-заводские рабочие! И главный среди них самый молодой — Петровский.
Лариса не сводила с Евгения внимательного взгляда. Прислушалась к его словам и появившаяся в дверях хозяйка дома — Елизавета Андреевна.
— Правду говоря, — продолжал он, — я порой не могу понять новоявленных революционеров и проникнуть в их психологию. Несмотря ни на что, они, например, учатся даже в тюрьмах… А зачем? Если б кто-нибудь из них хотел стать, скажем, инженером или врачом, то понятно. Но терять зрение ради того, чтобы пропагандировать социалистические идеи, которые, в сущности-то, являются химерой! Для этого, знаете ли, нужно быть или фанатиком, или… героем. Земля наша богата и бедна одновременно. Достаточно богата, чтобы обеспечить приличное существование более умным и ловким, но остальным…
— Но ведь всем хочется жить по-человечески, — перебила его Лариса.