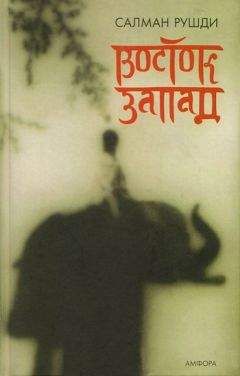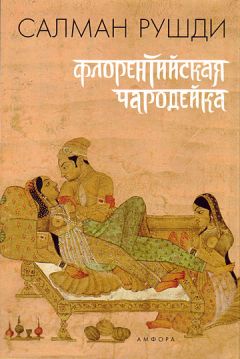нетерпимости, маскирующейся под свободу слова”. Он не хотел продолжать перепалку с Ле Карре, но чувствовал себя обязанным ответить на обвинение в том, что
ополчился на знакомого противника и, когда тот отреагировал обычным для себя образом, завопил: “Нарушение правил!” “Предполагаю, что наш хэмпстедский герой готов сказать то же самое многим писателям, журналистам и интеллектуалам из Ирана, Алжира, Египта, Турции и других стран, которые на родине или в эмиграции ведут такую же борьбу против исламизма и за светское общество – короче говоря, за свободу от гнета Великих Мировых Религий. Я, со своей стороны, пытался в эти скверные годы привлечь внимание к их трудной судьбе. Иные из них, которые были в числе лучших – Фараг Фауда, Тахар Джаут, Угур Мумку, – поплатились жизнью за свою готовность «ополчиться на знакомого противника»… Я, честно говоря, не считаю священников и мулл, не говоря уж о террористах и убийцах, самыми подходящими арбитрами, чтобы определять, как можно мыслить, а как нельзя”.
Ле Карре замолчал, но теперь на ринг выскочил его друг Уильям Шоукросс [234]. “Притязания Рушди возмутительны… от них несет триумфаторским самодовольством”. Это было неуклюже, ибо Шоукросс в прошлом был председателем “Статьи 19”, так что организация сочла необходимым написать письмо, которым отмежевывалась от его обвинений. “Гардиан” не хотелось, чтобы эта история сошла на нет, и редактор газеты Алан Расбриджер, позвонив ему, спросил, не собирается ли он ответить Шоукроссу. “Нет, – сказал он Расбриджеру. – Если Ле Карре хочет от своих друзей, чтобы они ему подвывали, это его дело. То, что мне надо было высказать, я высказал”.
Некоторые журналисты объясняли враждебность Ле Карре обидой из-за его старой отрицательной рецензии на “Русский дом” – а его вдруг охватила печаль из-за случившегося. Тем Ле Карре, что написал романы “Шпион, выйди вон!” и “Шпион, пришедший с холода”, он издавна восхищался. В более счастливые времена они даже выступали с одной сцены, участвуя в кампании солидарности с Никарагуа. Он подумал: не откликнется ли Ле Карре положительно, если он предложит ему оливковую ветвь? Но Шарлотта Корнуэлл, сестра Ле Карре, случайно встретив на улице Северного Лондона Полин Мелвилл, выразила ей свое негодование: “Ну и ну! Этот ваш приятель!” – так что, похоже, страсти в их лагере кипели слишком сильно, чтобы мирная инициатива могла в тот момент иметь успех. Но он жалел о перебранке и чувствовал, что “победителя” в ней нет. Проиграли оба.
Вскоре после этого выяснения отношений его пригласили в “Шпионский центр” выступить перед группой начальников британских разведывательных резидентур, и устрашающая Элайза Маннингем-Буллер из МИ-5, чей облик (наполовину тетя Далия из романов Вудхауза, наполовину королева Елизавета II) полностью соответствовал фамилии, высказалась о Ле Карре с негодованием:
– Он понимает, что делает? – вопрошала она. – Неужели он ничего не соображает? Он что, полный идиот?
– Но разве в прошлом, – спросил он Элайзу, – он не был одним из вас?
Элайза Маннингем-Буллер оказалась из малочисленной и драгоценной категории женщин, которые могут по-настоящему фыркнуть.
– Ха! – фыркнула она, как самая что ни на есть вудхаузовская тетушка. – Он, кажется, проработал у нас минут пять на какой-то малюсенькой должности, но он никогда, милый вы мой, не был на одном уровне с теми, перед кем вы сегодня выступали, и заверяю вас, что после этого никогда на нем не будет.
Одиннадцать лет спустя, в 2008 году, он прочел интервью с Ле Карре, в котором его бывший противник сказал об их старой распре: “Возможно, я был не прав. Если так, я был не прав из хороших побуждений”.
Он написал почти двести страниц “Земли под ее ногами”, когда разбились надежды Пола Остера на то, чтобы снять его в своем фильме “Лулу на мосту”. Профсоюз водителей грузового транспорта (“Ты можешь себе это представить? Водилы, эти крепкие мужики”, – сокрушался Пол) заявил, что боится участия мистера Рушди в картине. Они, конечно, хотели денег, хотели платы за риск, но платить было нечем: денег хватало в обрез. Пол и его продюсер Питер Ньюмен сражались изо всех сил, но в конце концов признали поражение. “Когда я понял, что у нас это не выйдет, – сказал ему Пол, – я закрылся у себя в комнате и заплакал”.
Его роль в спешном порядке передали Уиллему Дефо. Что все-таки было лестно.
Он отправился послушать Эдварда Саида, который выступал в журнале “Лондон ревью оф букс”, и там к нему подошел молодой человек по имени Асад и признался, что в 1989 году был руководителем Исламского общества в Ковентри и “ответственным по графству Уэст-Мидлендс” за организацию демонстраций против “Шайтанских аятов”. “Но не бойтесь, – смущенно выпалил Асад, – теперь я атеист”. Что ж, это прогресс, отозвался он, но молодой человек еще не все сказал. “А недавно, – воскликнул Асад, – я прочел вашу книгу и не мог понять, из-за чего был весь этот шум!” – “Это хорошо, – заметил он в ответ, – но должен вам указать, что вы, не прочтя книги, организовывали этот шум”. Ему вспомнилась старая китайская пословица, которую иногда приписывают Конфуцию: Если долго сидеть у реки, то когда-нибудь мимо проплывет труп твоего врага.
Семимесячный Милан улыбался всем подряд, без конца агукал, понятливый, благодушный, красивый. За неделю до Рождества он начал ползать. Полицейские отключали и увозили сигнализационное оборудование. В день Нового года работать с ним приехал Фрэнк Бишоп, через несколько “промежуточных” недель дом должен был перейти в их с Элизабет полное распоряжение, и благодаря этому они, несмотря на все разочарования года, чувствовали, что кончается он хорошо.
В начале года – года начала конца, – когда в последний раз закрылась дверь за четырьмя полицейскими, девять лет жившими с ним под многими именами и во многих местах, и когда, таким образом, завершился период круглосуточной охраны, которую Уилл Уилсон и Уилл Уилтон предложили ему на Лонсдейл-сквер в конце предыдущей жизни, он спросил себя, что происходит: он вновь обретает свободу для себя и своей семьи – или подписывает всем смертный приговор? Кто он – самый безответственный из людей или реалист с верными инстинктами, желающий в тиши воссоздать подлинно частную жизнь? Ответ можно будет дать только ретроспективно. Через десять или двадцать лет он будет знать, верны его инстинкты или нет. Жизнь живется вперед, но судится назад.
Итак – в начале года начала конца; и не зная будущего; и с младенцем, который был занят тем, чем бывают заняты младенцы, который однажды в первый раз сел без посторонней помощи, который пытался встать, держась за прутья