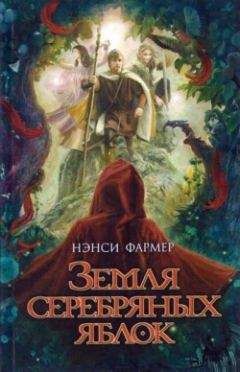Ознакомительная версия.
И опять гульба, ночные заплывы, дешевое молодое вино, от которого не ходили ноги, а потом стихи, игры, придуманные папой (он писал, например, текст с многоточиями, а друзья должны были вставлять вместо точек прилагательные), антисоветские анекдоты, песни, чаще всего гимн Коктебеля, который и был написан Владленом Бахновым тогда, в разгар антишортовых репрессий:
Ах, что за славная земля
Вокруг залива Коктебля:
Колхозы, б…, совхозы, б…, природа!
Но портят эту красоту
Сюда приехавшие тунеядцы, б…, моральные уроды!
Спят тунеядцы под кустом,
Не занимаются трудом
И спортом, б…, и спортом, б…, и спортом.
Не видно даже брюк на них,
Одна чувиха на троих
И шорты, б…, и шорты, б…, и шорты.
Девчонки вид ужасно гол,
Куда смотрели комсомол
И школа, б…, и школа, б…, и школа?
Хотя купальник есть на ней,
Но под купальником, ей-ей,
Все голо, б…, все голо, б…, все голо![3]
И на поезде, с южными фруктами, отварной курицей и крутыми яйцами, через весь юг обратно домой, в Москву, загорелые и счастливые, добирались двое суток.
На фоне горы Карадаг
Сестра
Продолжение игры
Евгений Урбанский
В те 60-е у нас на шестом этаже в доме на Кутузовском любил бывать актер Евгений Урбанский. Высокий фактурный красавец, открытый, щедрый, удивительный, похожий на Маяковского, как однажды сказала ему сама Лиля Брик. Думали, он женится на Татьяне Лавровой, с которой работал вместе в Театре Станиславского. Но очень они были взрывные оба, и нет, не получилось. На фестивале в Москве познакомился с рижанкой Дзидрой Ритенберг, у которой до него был довольно долгий роман с Вячеславом Тихоновым. Когда Женя первый раз привел ее к нам в дом, мама даже опешила от такой красоты, совершенно неземной какой-то, весь вечер сидела и любовалась ею. Дзидра была одной из самых красивых советских актрис, и пара эта получилась шикарная! Оба лучезарные, с улыбкой во все 64 зуба, они всегда приносили с собой хорошее настроение и что-нибудь на стол: то рижскую салаку или копченого угря, то несколько бутылок горького рижского бальзама, то какие-нибудь консервы. Дзидра с мамой хлопотали на кухне, Женя брал в руки гитару и шел им морально помогать, напевая все, что придет в голову. Приготовление еды с таким аккомпаниатором шло намного быстрее. Пел он замечательно, пожалуй, в то время мало кто мог с ним сравниться, был всегда центром компании, мотором, не выключающимся ни на минуту. Иногда начинал вдруг говорить не по-своему, витиевато и непонятно, не своим даже голосом, будто совсем другой человек, и вести себя не как обычно, а странно как-то. Я один раз спросила у мамы, что случилось с дядей Женей, почему он не такой, как обычно.
– Наверное, роль учит, репетирует, – пояснила мама.
Вот так входил в роль, отрабатывая на нас целые куски и монологи то из Булгакова, то из Брехта.
Как-то маме позвонила Тамара Федоровна Макарова, жена Сергея Апполинариевича Герасимова, и дрожащим голосом сообщила, что самолет, на котором папа и Герасимов летели в Челябинск, уже полчаса не выходит на связь. Перепуганная мама стала названивать в справочную, ей сказали то же самое. Звонила и звонила, но никакой информации не поступало. Вдруг совершенно неожиданно пришел Женя. Раньше особо не было принято предупреждать о визите – просто заходили, и все, если хозяев не было или были заняты, шли дальше.
– Что случилось? – спросил Женя, увидев маму в слезах.
– Роба улетел в Челябинск, что-то с самолетом, в справочной не говорят.
– Сейчас попробуем узнать, – сказал Женя и набрал номер справочной.
– Девушка, – сказал Женя бархатным голосом, – это актер Евгений Урбанский. Вы поэта Роберта Рождественского знаете? Да? Это мой близкий друг. Он летит сейчас в Челябинск. Связь с самолетом потеряна, и мы с его супругой очень волнуемся. Вы не могли бы узнать? Телефон Д 227–83. Да, спасибо, буду ждать.
И что вы думаете? Минут через 15 раздался звонок, и барышня сообщила, что все в порядке и самолет уже совершил посадку.
Отмечать удачное приземление рыдающая от счастья мама и довольный Урбанский пошли в ресторан ЦДЛ.
Уехав однажды в киноэкспедицию, дядя Женя Урбанский не вернулся.
У нас были поминки, вернее, все друзья просто пришли к нам на следующий день после его гибели. Долго молча сидели, никто не мог поверить, что он сейчас не взбежит по лестнице и не войдет в дом с полными руками подарков, не возьмет гитару и не споет, как обычно. Папа мне сказал, что дядя Женя больше не придет.
– Почему?
– Он погиб.
– Как это? – За мою шестилетнюю жизнь еще никто не погибал.
– Его уже нет, – пояснил папа.
– Как это нет, когда я его знаю?
– Он разбился на машине.
– Ему больно?
– Уже нет.
– Так почему ж не придет?
Я помню этот длинный разговор с отцом, мои наивные вопросы и его осторожные объяснения. Я все спрашивала и спрашивала, а он все отвечал и отвечал, сам, наверное, удивляясь, что нет больше Женьки Урбанского.
Потом узнали, как он погиб. Снимали какой-то фильм в бухарской пустыне. Нужно было перепрыгнуть на машине с одного бархана на другой, красиво так перепрыгнуть, зрелищно, высоко. Урбанский каскадера не пустил, сел за руль сам, хотел денег на этом заработать, тем более что накануне его обокрали, забрав приличную сумму. А за каждый трюк полагалось сколько-то рублей, ведь деньги копились на кооперативную квартиру – Дзидра уже ждала ребенка. Разогнался по песку, взлетел и прыгнул. Машина неудачно приземлилась и перевернулась, хотя все было рассчитано, что не должна была, стопроцентно. Урбанский, вместо того, чтобы нагнуть голову, высунулся, чтобы посмотреть, что случилось, и сломал шею. «Он всегда высовывался», – позже скажет отец. Его вытащили, лежал весь в песке, в крови. Был в сознании, все понимал. До больницы не довезли, умер в «Скорой». Все шептал: «Больно-то как…» Было ему всего 33, возраст Христа.
А незадолго до смерти играл в футбол копией своей головы, которую сделали специально к фильму. Нехорошая примета, скажут потом. Подтвердилось.
Красавец!
Папа написал на его смерть стихи:
Есть на свете
такие парни —
дышит громко,
смеется громко,
любит громко
и шепчет
громко!
Есть на свете такие парни…
Есть на свете
такие парни!
К жизни
он припадает губами,
Пьет ее.
И напиться не хочет…
И когда —
такие! —
уходят
вдруг,
на взлете,
на взмахе,
на вздохе, —
как земля в сентябре,
обильны, —
ничего не чувствуешь.
Только
жжет обида.
Одна обида.
На кого – не знаю.
Обида.
И гадать не хочу.
Обида.
Есть на свете
такие парни.
Все для жизни в них —
не для памяти!
Память, в общем-то,
по иронии —
вещь
достаточно односторонняя.
И бубнить про нее округло
в данном случае
слишком глупо,
слишком горько
и бесполезно…
Мы —
живые.
Мы —
из железа.
Пусть намеком
пустые урны
крематорий
держит за пазухой.
Вновь меня
заполняет утро,
как улыбка
Женьки Урбанского.[4]
Ознакомительная версия.