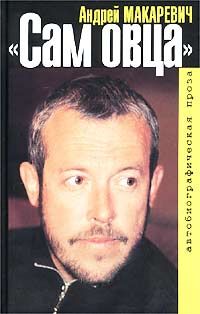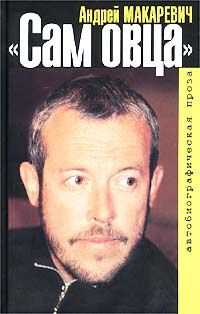Ознакомительная версия.
Очень похожее происходило в середине восьмидесятых в так называемой Московской рок-лаборатории — последней судорожной попытке умирающего комсомола сплясать кадриль с неформальной молодежью. Чтобы попасть в эту рок-лабораторию, надо было быть альтернативным во всех проявлениях и с презрением относиться, скажем, к «Машине времени» как к зажравшимся и продавшимся ретроградам. Умение петь, играть или сочинять музыку было отнюдь не первостепенной важности вещью. Стоило группе «Браво» обрести популярность, выходящую за рамки этой песочницы, как их дружно облили фекалиями и выгнали из садика — они продались. Оказывается, важно не что и как поешь, а — с какой поляны.
Все-таки страшно интересно — это отголоски классовой борьбы или просто от зависти?
Имел я длинный спор с кинорежиссером Сергеем Соловьевым. Речь шла об одном очень ловком молодом человеке, который вдруг взял и стал концептуальным художником, очень удачно попал в красную волну, которая накрыла Америку, умиленную словами Gorbachoff и Perestroyka (и схлынула, кстати, через пару лет, оставив американцев в некотором недоумении.)
Я печалился по тому поводу, что прокатились на этой волне за океан самые ушлые и шумные, убедив на время наивных американцев в том, что они и есть соль русского современного искусства. Они заслонили собой многих действительно хороших художников, которые в это время сидели и рисовали. Соловьев мне отвечал, что победителей не судят, и что талант — это не просто нарисовать занимательную картинку, но еще и добиться того, чтобы человечество ее полюбило. Наверно, сегодня дело именно так и обстоит. Но мне все-таки кажется, что это два каких-то разных таланта. И если первый отсутствует, то самые невероятные проявления второго вызывают у меня разве что чувство неловкости за его обладателя.
Победителей, кстати, тоже судят. Их судит Время.
А если вас интересует сугубо мое определение искусства, то звучит оно примерно так: «Искусство есть стрельба в неведомое, где степень точности попадания соответствует степени приближения человека к Богу».
Вот так высокопарно, господа. И если стоящий рядом со мной метко пускает стрелу в цель, мне все равно, какую при этом эстетику он исповедует и какой ширины у него брюки. Тем более мне это безразлично, если стрелы его уходят в «молоко». Согласитесь, господа, что второе мы наблюдаем куда чаще.
Интересно, что мы с отцом никогда не говорили на эту тему. И тем не менее, когда я пишу это, я слышу в голове его голос. Для него не существовало заборов, разделяющих направления и жанры, но искусство от неискусства он отличал моментально и безошибочно. Он не видел противоречий между Модильяни и Рембрандтом — он видел противоречие между ними и Глазуновым.
Еще одна вещь, которая меня поражает, — деление искусства на прикладное и чистое. (Следовательно, прикладное — уже нечистое, понимаете? То есть как бы второго сорта.) О чем вы, господа? О какой такой чистоте? Я, например, не знаю неприкладного искусства.
Потому что музыка — это чтобы слушать. Картина — чтобы повесить на стену и смотреть на нее. Книга — чтобы читать. Я что-то упустил?
Мало того — почти все великие произведения искусства писались на заказ — и мессы Баха, и фрески Сикстинской капеллы, и «Святая Троица», и великий художник никогда не отличался в глазах человечества от великого ремесленника каким-то свечением над головой — этот нимб ему приделали не так давно, лет сто пятьдесят — двести назад. И импрессионисты, которые смели классицистов, так же мечтали продавать свои работы, как и их растоптанные предшественники. (Не всегда сразу получалось — это другой вопрос.) Я не верю художнику, который пишет картины, складывает их за шкаф и говорит, что пишет для Вечности и ничье мнение его не интересует. Я сам иногда повторяю эту фразу (мол, сам знаю, что у меня получается, а что — нет), но, сделав что-то новое, спешу это показать — сначала друзьям, а потом всем остальным. С этого момента моя вещь уже становится прикладной, верно?
Отец, кстати, выставлялся как художник всего один раз — в Архитектурном институте, на выставке работ преподавателей. Среди прочих работ он вывесил портрет негра. Выставку, естественно, принимала комиссия, какой-то идиот спросил: «Зачем нам неф?» — портрет сняли. Я думаю, это очень ранило отца, больше он не выставлялся, отшучивался: «На фиг мне это надо?» А графика у него была потрясающая, с невероятно точной линией, в необычной технике и очень по тем временам не соцреалистическая.
Отец подолгу не рисовал — не было времени, потом вдруг садился и выдавал залпом работ двадцать — на одном выдохе. И все-таки зрители были — в первую очередь наша семья и школьный его друг дядя Соля, полковник медицинской службы, и работы его становились прикладными к нам. Работ было очень много, мать пилила отца, чтобы он наконец выхлопотал мастерскую, потому что и как повернуться негде. Для мастерской нужно было собрать какие-то бумажки, а отец больше всего на свете не любил собирать бумажки и ходить с просьбами. Мать в конце концов победила, отец собрал бумажки, получил мастерскую где-то у черта на рогах, отвез туда свои работы, но рисовать по инерции продолжал дома. Потом в мастерской лопнула труба, и почти все работы погибли.
Впрочем, все это в качестве примера не годится — рисование не было основной профессией отца, оно вообще не было его профессией — он работал архитектором и оформителем, и это отнимало все силы и время, а рисовал он действительно больше для себя. И все же года за два до смерти — у меня была какая-то выставка моих работ — полушутя сказал: «Может, и мне с тобой выставиться?» Теперь я понимаю, что ему этого очень хотелось. И мне страшно жаль, что мы не успели это сделать.
У американских индейцев был такой музыкальный инструмент — индейская скрипка. Она представляла из себя гриф с одной-единственной струной. Конец грифа зажимался зубами, и голова играющего становилась резонатором. Скрипка звучала — но только внутри головы скрипача, снаружи было тихо. Инструмент давал шанс стать Паганини для самого себя.
Других примеров чистого искусства я не знаю.
Еще были праздники.
Детская жизнь вообще вспоминается как цепь сплошных праздников. И не потому, что мы так хорошо жили — просто о несчастьях не сообщалось, и о них никто не знал. Это сейчас нам о них талдычат с утра до ночи со всех страниц газет и по всем телепрограммам, думая, очевидно, что таким образом можно уменьшить их количество, а скорее всего, ничего не думая.
А тогда несчастья если и происходили, то — в странах капитализма. А наша жизнь состояла из радостных трудовых будней и — праздников. Народ с огромным воодушевлением встречал решения съезда, вставал на трудовую вахту, перевыполнял план, а в праздники — рапортовал. Все понимали, что на самом деле все не так, подтрунивали над этим (в основном в меру дозволенного) но на атмосферу в целом такая безоблачность сильно влияла. Изредка только умирал какой-нибудь член политбюро, и то никто по нему взаправду не скорбел, и даже голос диктора по радио звучал излишне траурно, и казалось даже, что он втихаря подмигивает, пользуясь тем, что его не видно.
Ознакомительная версия.