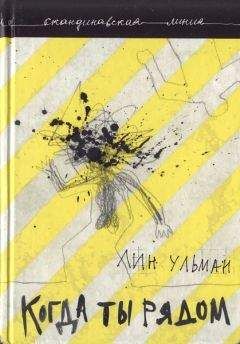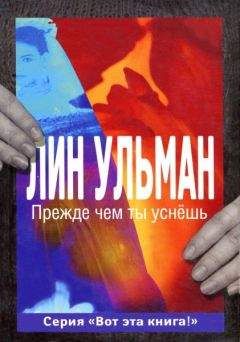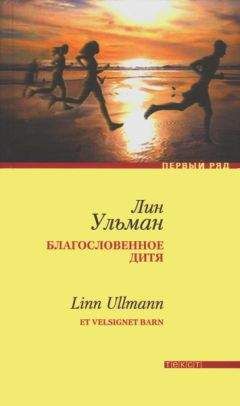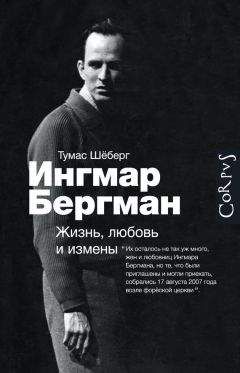аэродроме дедушка ударился головой о пропеллер, а спустя несколько лет умер в больнице Нью-Йорка. Опухоль мозга. Я так и не поняла, существовала ли взаимосвязь между пропеллером и опухолью мозга или это были два не связанных между собой события. Дочери у бабушки с дедом были светловолосые, бледные и худые. Я читала, что маленькие девочки вообще друг на дружку похожи – блондинистые девочки похожи на других блондинистых девочек, а девочки-брюнетки напоминают внешне своих темноволосых сверстниц – их почти не отличить друг от дружки. Так сказал один американский полицейский, расследовавший дело о похищении. Осенью 2007 года в заливе Галвестон в Техасе обнаружили тело маленькой девочки. Оно лежало в синей пластмассовой коробке – там оно пролежало не менее двух недель. Никто не знал ни кто она, ни почему она лежит в этой синей коробке. «Наша жизнь – это дать имя», – писал Гюннар Бьорлинг. Я помню, как американский полицейский, который руководил расследованием, дал малютке имя Бейби Грейс и сказал, что расследование осложняется тем, что все маленькие девочки похожи друг на дружку.
Вот только маленькие девочки не смотрят на других маленьких девочек и не думают, что вот она – да, похожа на меня. Они думают, что на них никто не похож, «я такая одна-единственная во всем мире».
По окончании войны, заходя на борт первого корабля, идущего домой, в Норвегию, бабушка везла с собой самый удивительный багаж. Она везла скорбь и апельсины, дочек и чемоданы и черную лакированную сумочку с полукруглой ручкой и замочком, который щелкал каждый раз, когда бабушка открывала или закрывала его. И еще она везла урну с прахом. Когда судно пристало в Бергене, девочки принялись бросать апельсины тем, кто пришел встречать американский корабль.
ОН У меня лишь один глаз, и на этот факт я смотрю без радости. Через несколько месяцев меня положат в больницу в Висбю и прооперируют. Они говорят, зрение ко мне вернется. А пока я способен почти только на то, чтобы сидеть тут и слушать музыку. Это потрясающе, ты понимаешь, потрясающе, что я годами собирал все эти… все эти кни… музы… все эти пластинки вот тут, на полках.
Он с усилием приподнимается с инвалидного кресла, стоящего на расстоянии вытянутой руки от полок с проигрывателем и пластинками, дрожащими пальцами поднимает тонарм и ставит иглу на пластинку. Я представляю, как он проделывает все это. Воспоминаний об этом у меня нет. Никаких пометок я не делала. У меня есть только записи. Шипение, вздохи, пощелкивание, его едва слышный стон и мой голос:
– Тебе помочь?
А потом его ответ:
– Нет!.. Нет!.. Говорю же – не надо!
ОН Это началось, когда мне, маленькому мальчишке, разрешили сходить в Оперу.
ОНА А кто водил тебя в Оперу?
ОН Что-что?
ОНА Кто водил тебя в Оперу?
ОН Моя тетя Анна фон Сюдов, у нее была огромная шляпа и куча денег.
Тишина.
ОН Я помню… мне было десять или двенадцать, и моей первой оперой был «Тангейзер»… вагнеровский «Тангейзер»… я слушал, и у меня даже, кажется, температура поднялась… Потом, ночью, у меня и впрямь был жар. Забавно это, да?.. В каком году это случилось, не знаю.
ОНА Если тебе было десять лет, значит, наверное, это случилось в тысяча девятьсот двадцать восьмом, в Стокгольме?
ОН Да, наверное, так и есть.
ОНА Расскажешь о той ночи, когда ты вернулся из Оперы домой?
ОН Я заболел – у меня был жар.
ОНА Ты испугался?
ОН Нет.
ОНА Ты по-прежнему можешь испытывать подобные потрясения, как в тот раз?
ОН Да.
ОНА Насколько же сильные?
ОН Да… Но Вагнер словно опередил всех остальных… Хочу, чтобы ты послушала… Давай посмотрим, каково это.
Он пытается поставить пластинку, и тут на полную громкость включается радио, женский голос рассказывает что-то о Вивальди.
ОН Но это же не то…
ОНА Ты включил радио.
Он выключает радио, копается, она рвется помочь ему, но он отстраняет ее, наконец он ставит пластинку. Это фортепианный концерт Бетховена соль мажор.
ОН Более великой музыки не существует, разве что Бах.
Дальше долгое время слышна лишь музыка.
Она говорит что-то, но неразборчиво. Он перебивает ее.
ОН (громко). Я не хочу говорить. Не хочу перебивать Бетховена. Не хочу говорить, когда говорит Бетховен.
ОНА Прости. Буду молчать. Давай просто послушаем.
Музыка резко умолкает.
ОН В другой раз послушаем (нетерпеливо) – тогда можем хоть все послушать… Они тридцать пять минут играют.
ОНА Да, так и сделаем… послушаем все целиком… молча.
ОН Да. Или можешь тоже купить такую пластинку.
Она не отвечает.
ОН Так на чем мы остановились?
Я вспоминаю оттенки голубого, проступавшие у него на руках, и ногах, и лице, когда от жизни оставались лишь часы или дни. Это называется синюшная мраморность. Он превращался во что-то, даже переставая существовать. Мраморность – это когда два или несколько цветов смешиваются в мраморный узор и превращают поверхность – камня, бумаги, дерева, кожи – в нечто другое, непохожее на прежнее. Не знаю, рассказывать ли мне в настоящем времени или прошедшем. В текстовой антологии Су Ийяна «Четыре сокровища рабочего кабинета», написанной в конце десятого века, мы находим самый большой рассказ, посвященный технике мраморирования бумаги – способу создания декоративной бумаги, описываемой как «волнистый песок». Поднимая одеяло и глядя на папины мраморные ноги, я не думала об этом – ни о голубом цвете, ни о бумаге, ни даже о волнистом песке, которого на Форё сколько угодно. Я думала о том, что мать говорила отцу: «Если сомневаешься, что она – твоя дочь, посмотри на ее ступни. Они точь-в-точь как у тебя. И ноги тоже. Такие же длинные и худые».
ОН Я прогуливаюсь вокруг дома, а рядом со мной идет кто-то, но я не знаю, кто это. Это человек без имени. Вскоре я говорю этому человеку: «По крайней мере, дом этот – сказочный». И тогда мой собеседник отвечает: «Да, ты, наверное, невероятно горд».
Он доверительно наклоняется к ней.
ОН (шепчет). Но дом-то не я построил. (Откидывается назад и снова говорит громко.) Я говорю моему собеседнику: «Но этот дом построил не я!» И знаешь, что тогда происходит?
ОНА Нет.
ОН Этот