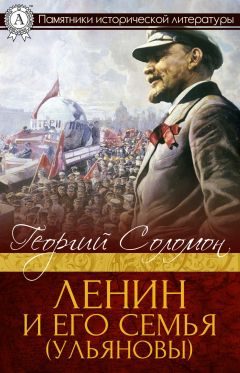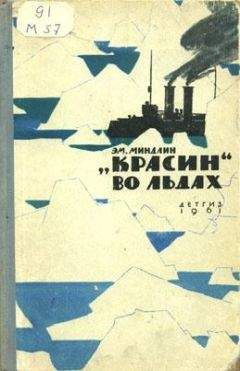Ознакомительная версия.
— Сегодня, господин тайный советник, — начал я, переходя к цели моего визита, — я делаю свои первый шаг на пути моего дипломатического поприща…
Я заметил по глазам Надольного, что о приграничном инциденте ему уже известно (напомню, что все наши телеграфные сношения перлюстрировались). Я заявил протест. Он стал отделываться разными «отписочного» характера любезными заявлениями: он примет-де меры, все-де уладится, наведет справки и пр. Я настаивал на том, чтобы ввиду срочности этого дела и серьезности его он сейчас же, при мне сообщил соответствующему военному начальству и потребовал бы категорического приказа зарвавшемуся немецкому офицеру возвратить заложников, скот и пр., отойти от нашей границы и наказания его. После долгих препирательств Надольный тут же исполнил мое требование: инцидент был исчерпан, офицер понес наказание.
И вслед за тем мне часто приходилось встречаться с Надольным, и между нами установились очень приличные отношения, не переходившие, конечно, известных официальных границ[18]. Однако мне вспоминается, как однажды Надольного, что называется, прорвало. Дела немцев на войне шли все хуже и хуже. На голову их падали одна за другой все более тяжкие неудачи. Внутри страны становилось все тяжелее, недоедание все острее выявляло себя. Наряду с этим наблюдалось и начало падения дисциплины в войсках. Помню, мне стало известно из очень осведомленного источника, что в самом Берлине, по полицейским сведениям, насчитывалось до 60 000 дезертиров. Полиция всюду выискивала их и арестовывала, производя по ночам целые облавы по кварталам. И вот однажды, придя к Надольному по какому-то делу (в этот день известия с фронта были очень тревожные), я застал его в большом волнении, которого он, против обыкновения, не мог скрыть.
— Снова поражение!.. непоправимое поражение… Вы читали?
Я подтвердил и сделал какой-то сочувственный жест.
— Ну, так знайте, — пророчески заметил он в сильном волнении, — мы будем вконец разбиты… Мы катимся в пропасть… Германия, великая Германия гибнет! И наши враги, в конце концов, будут в Берлине… О, — с нескрываемым ужасом и ненавистью прибавил он, — она нас в порошок сотрет, эта Антанта, и всех нас, да, всех нас поголовно перебьют… Да, перебьют, перережут, — почти истерически повторил он несколько раз. — Мы и так уже все голодаем… Если бы вы знали, как мы питаемся, мы, немцы… это ужас… Вы, конечно, не знаете этого… вы счастливцы, вы получаете усиленные дипломатические выдачи… А мы, немцы, мы уже едва дышим со своими семьями…
Это был единственный случай, что его прорвало и он говорил со мной так откровенно из глубины своей наболевшей немецкой души…
Между тем Иоффе решил последовать определенной традиции и попытался наладить встречи на нейтральной почве между работниками министерства иностранных дел и нашею посольства. С этой целью он устроил дипломатический обед… Однако повод он избрал очень неудачный — чествование благополучного окончания переговоров по поводу платежей в согласии с Брест-Литовским договором (см. стр. 54 настоящих воспоминаний). Должен сказать, что пункт этот и связанные с ним платежи меня глубоко возмущали, почему я и не хотел участвовать в переговорах, приведших Россию к тому, что Россия обязалась уплатить и, как известно, и уплатила немцам шесть миллиардов золотых марок…
Я обратил внимание Иоффе на то, что, по-моему, нам неприлично устраивать по этому поводу торжество, что это зазорно — праздновать свое собственное поражение. Но беседа наша происходила в присутствии «личного секретаря», настаивавшего на придании этому первому нашему дипломатическому обеду именно такого характера. С вмешательством этого влиятельного лица мне было не под силу бороться. Я хотел было хотя бы выговорить для себя право не участвовать в этом обеде, как я не участвовал и в переговорах. Но Иоффе заметил совершенно официально, что он настаивает на моем участии и считает, что мое отсутствие, как второго лица в посольстве, явилось бы демонстрацией, которая не прошла бы незамеченной и вызвала бы толки и пересуды… Пришлось подчиниться…
Обед этот вызвал целый переполох, и мне пришлось до некоторой степени быть церемониймейстером: я посоветовал Иоффе заказать себе смокинг, указал ему, какой галстух надо надеть (по совету М. М., он хотел надеть длинный цветной галстух…). Были приглашены во главе с фон Гинце все высшие чины министерства иностранных дел, а также банкир Мендельсон, Штреземан и др. Не знаю уж, как это вышло, но только было решено без моего участия, что «личный секретарь» не будет присутствовать на этом обеде. Гости оказали должное внимание роскошному обеду, сервированному в великолепном белом зале посольства. Все прошло гладко и чинно. Но за кулисами шло безобразие. Младшие служащие, в том числе и латыши-красноармейцы, не были приглашены на обед и ворчали, находя, что это нарушает равенство… Сбившись в соседней с белым залом комнате, они выражали свой протест, переругивались… А красноармейцы подкарауливали, когда выносили остатки на блюдах, и руками хватали прямо с блюд куски, к ужасу приглашенных на этот случай немецких официантов…
Вскоре после этого обеда Иоффе как-то с жалкой улыбкой спросил меня, как я отношусь к тому, чтобы пригласить опять гостей, но уже на файф-о-клок[19].
— Первый наш обед прошел так удачно… хорошо было бы повторить встречу с чиновниками министерства… Это закрепляет отношения… И я думаю (вот здесь-то и была зарыта собака), что в этом чаепитии и Мария Михайловна, как мой личный секретарь, должна принять участие… Ведь помимо всего, что ни говорите, а присутствие женщины действует как-то смягчающе…
Состоялся и торжественный файф-о-клок с участием Марии Михайловны.
Повторяю, она вмешивалась всюду. Так, помню, однажды к Иоффе приехал министр иностранных дел фон Гинце, если не ошибаюсь, для того, чтобы условиться о деталях и порядке передачи упомянутых выше шести миллиардов марок германскому правительству. Я был приглашен Иоффе принять участие в этом обсуждении, при котором присутствовала и Мария Михайловна. И она не ограничивалась ролью простой слушательницы, а все время вмешивалась в разговоры, давала советы, делала указания. Нетрудно было заметить, что Гинце это вмешательство было неприятно и даже вызывало недоумение. Но, хорошо воспитанный, он проявлял свое недовольство только тем, что, выслушивая с любезной улыбкой замечания Марии Михайловны, не всегда отвечал на ее, по большей части, нелепые и не идущие к делу реплики…
Наше посольство, естественно, находилось в связи с различными политическими группами, с которыми Иоффе постоянно вел какие-то переговоры и представители которых вечно торчали у него на обедах и завтраках. Я мало с ними встречался. Из лиц, бывавших в посольстве, я часто видался с Карлом Каутским и его женой Луизой Каутской. С ними у меня установились простые отношения. Сперва Каутский очень сочувственно относился к советскому строю, но, как он всегда оговаривался, только как к крупному и интересному опыту. Однако как-то постепенно он стал отпадать от нашего посольства, визиты его становились все реже, и, отмечу здесь же, в дальнейшем он стал на вполне отрицательную точку зрения… Бывали в посольстве и представители «независимой социалистической партии», как Ледебур, Гаазе, Оскар Кон и др. Мне мало приходилось встречаться с ними, так как у меня слишком много было неотложного дела, в которое я ушел с головой. Впрочем, по текущим делам мне часто приходилось видаться и говорить с Оскаром Коном, который состоял при посольстве в качестве юрисконсульта, и с ним у меня установились недурные отношения. Но замечу кстати, позицию своей партии Кон, по-видимому, знал слабо, ибо часто при наших мимолетных с ним спорах он, не приводя возражений по существу, говорил: «Надо, чтобы вы об этом поговорили с Гаазе, он ответил бы вам на этот вопрос отчетливо…»
Ознакомительная версия.