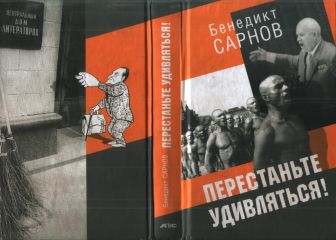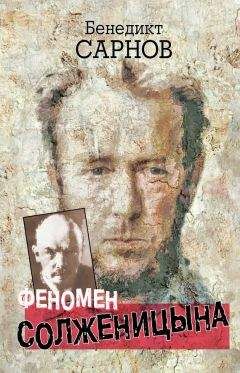Хотя однажды был и такой случай.
В так называемом Дубовом зале писательского клуба шло собрание московских поэтов. Как водится, был избран президиум, в который вошли все, кому полагалось туда войти. Собрание уже набирало обороты, когда открылась дверь, отделявшая зал заседания от ресторана, и в зал вошел Михаил Аркадьевич Светлов. Он, по-видимому, довольно сильно принял, потому что на ногах держался с некоторым трудом. Огляделся, ища стул. Но поблизости свободного места не нашлось. И тогда, слегка пошатываясь, он двинулся к столу президиума, углядев там единственное не занятое, свободное место. Усевшись там, он облокотился локтями на зеленое сукно, положил голову на ладони и тихо, мирно задремал.
Председательствовавший на том собрании Степан Петрович Щипачев нашел неожиданный, но, надо сказать, остроумный выход из создавшегося щекотливого положения.
— Есть предложение, — обратился он к залу, — кооптировать Михаила Аркадьевича в президиум.
Предложение это было встречено веселым гулом, кажется, даже аплодисментами. Все дружно проголосовали «за».
А Михаил Аркадьевич так мирно и проспал за столом президиума до самого конца собрания. Наутро он, естественно, ничего не помнил. А когда ему рассказали о вчерашнем его подвиге, меланхолически заметил:
— Вот как легко сделать карьеру. Для этого, оказывается, нужна всего лишь добрая порция хорошего армянского коньяку.
В первые же месяцы войны обнаружилась полная профессиональная несостоятельность всех советских маршалов. «Первый красный офицер» Клим Ворошилов и создатель Первой Конной Семен Михайлович Буденный не могли воевать с танками Гудериана. Необходимо было не только заменить стариков новыми, молодыми командармами, но и как-то объяснить народу, почему легендарные полководцы Гражданской войны, о воинских доблестях которых слагались оды, гремели песни и марши, оказались вдруг профнепригодными.
Эту задачу выполнил писатель Александр Корнейчук своей пьесой «Фронт».
Пьеса печаталась в «Правде» и по своему значению смело могла быть приравнена к постановлению ЦК.
Ходили слухи, что Сталин сам, лично правил текст пьесы, вымарывая одни реплики и заменяя их другими.
Когда один из любимых учеников поэта Ильи Сельвинского рассказал об этом учителю, тот сказал:
— Настоящий художник никогда не согласился бы на это. Я бы, во всяком случае, не смог.
— А что бы вы сделали на его месте? — спросил ученик.
— Если бы я оказался в положении Корнейчука, — ответил Сельвинский, — я бы сказал: «Товарищ Сталин! Вы сформулируйте вашу мысль, а я выражу ее своими словами».
А я всё думаю о Достоевском…
Юрия Олешу поражала изощренная чуткость советского редактора, его абсолютный слух, мгновенно улавливающий любой намек на крамолу. Приносишь в редакцию рукопись, — говорил он, — и каким бы тугодумом и даже тупицей ни был редактор, он сразу, безошибочно точным движением своего редакторского карандаша выкалывает ей глаз.
Когда до меня дошло это замечательное высказывание классика, я подумал, что в его основе — естественная для художника аберрация. Олеша ошибся, подумал я. Он поменял местами следствие и причину. Вся штука тут в том, что у настоящего художника — куда ни ткни, всюду глаз. Вот почему, какую бы строчку ни вычеркнул у несчастного автора редактор, тот испытывает такую боль, как если бы у него и в самом деле выкололи глаз.
Но жизнь показала, что прав был все-таки Олеша.
Советский редактор действительно обладал уникальным, поистине собачьим чутьем.
Взять хоть такой случай.
Книга литературоведа Б. Бурсова начиналась фразой:
«А я всё думаю о Достоевском…»
Редактор (а может быть, это был цензор: суть дела от этого не меняется) сразу сделал стойку. Что-то его в этой фразе смущало. Виноват, я оговорился: не «что-то». В отличие от меня, он (цензор) совершенно точно знал, что именно в этой фразе его смущает. Легким мановением руки он вычеркнул одно-единственное словечко — и все стало на место.
Какое же это было слово?
Попробуйте угадать…
Нет, не «всё». И не «думаю». И не «о Достоевском». (О Достоевском в описываемую эпоху думать уже разрешалось.)
Изъят был союз «А».
И в самом деле, сообразите: что же это у автора получалось? Весь советский народ думает о нашем поступательном движении к заветной цели, и только один он, злосчастный автор, думает о Достоевском!
А без этого противительного союза фраза выглядела уже более или менее нормально:
«Я всё думаю о Достоевском».
Ну что ж. На то ты и литературовед, чтобы думать о таких вещах. Это пожалуйста. Это можно…
Ювелирная тонкость редакторского (цензорского) вмешательства в авторский текст в этом случае, казалось бы, была доведена до предела: вся правка свелась к изъятию — даже не слова, а одной только буквы.
Впрочем, нет! Все-таки — слова. Просто так уж вышло, что всё слово тут состояло из одной буквы.
А был случай, когда всю крамолу редактору (цензору) удалось — поистине виртуозно! — погасить, ловко манипулируя одной-единственной буквой.
Собственно, было даже два таких случая. В одном редактор одну букву добавил, в другом — изъял.
Обе эти истории рассказал мне мой друг, известный наш драматург Леонид Зорин.
Герой зоринской «Варшавской мелодии» Виктор через десять лет после того, как сталинский указ, запрещающий браки с иностранцами, разлучил его с Геленой, приезжает с группой коллег по профессии в командировку в Варшаву. Он и Гелена с тоской и восторгом обнаруживают, что их чувство живо. Его не остудили ни годы, ни даже то, что Виктор давно уже женат, а Гелена замужем. Но когда Гелена просит Виктора уехать с нею на одну ночь в соседний город, тот растерян:
— Нельзя. Я же не один. Пропасть на всю ночь. Подумай сама.
Естественные резоны советского человека, ни на минуту не забывающего, что он «под колпаком».
В реплике «Я же не один» редактором была добавлена всего одна буква. Стало: «Я уже не один». Отказ Виктора провести ночь с любимой женщиной, с которой он был насильственно разлучен, объяснялся, таким образом, уже не страхом его перед всевидящим оком разлучившего их Государства, а совсем другим резоном, хорошо нам знакомым по классической реплике Маши Троекуровой: «Поздно, я жена князя Верейского!»
Другая — такая же! — история произошла при редактуре его пьесы «Римская комедия» («Дион»).
— В добрый путь, мальчик! — говорил Дион Ювеналу. — Ничего они с нами не сделают!