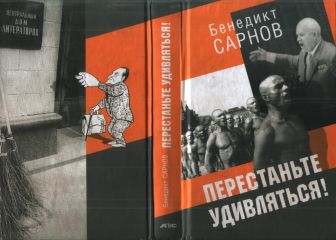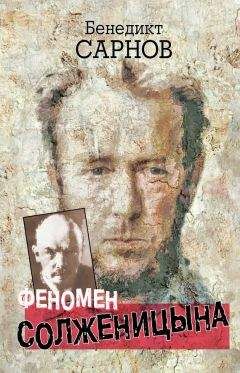Столь явное сочувствие расстрелянному «белогвардейцу», выплеснувшееся в этих строчках, делало совершенно невозможным появление их в тогдашней советской печати. Неудивительно поэтому, что в опубликованном варианте они выглядели уже несколько иначе:
Депеша из Питера: страшная весть
О черном предательстве Гумилева…
Я мчалась в телеге, проселками шла;
И хоть преступленья его не простила,
К последней стене я певца подвела,
Последним крестом его перекрестила…
В устах «механиков, чекистов, рыбоводов», с которыми братался потом Багрицкий, слова «о черном предательстве Гумилева», быть может, были бы уместны. Но здесь ведь это говорит Романтика! Если бы Гумилев даже и участвовал в белогвардейском офицерском заговоре (чего на самом деле не было), это как раз свидетельствовало бы о его верности Романтике. Романтику Гумилев во всяком случае не предавал, по отношению к ней никакого преступления не совершал и прощать или не прощать его ей было не за что.
Да, конечно, этот новый вариант, в угоду цензуре созданный поэтом, отдавал фальшью. И «швы» для внимательного глаза были видны. Но общий тон сочувствия расстрелянному поэту сохранился. Как бы то ни было, Романтика все-таки признавала Гумилева своим кровным, хотя и блудным сыном.
Гораздо хуже обстояло дело с другими строками того же стихотворения:
Я знаю, как время уходит вперед,
Его не удержишь плотиной из стали,
Он взорван подземный семнадцатый год
И два человека над временем стали…
И первый — храня опереточный пыл,
Вопил и мотал головою ежастой;
Другой, будто глыба, над веком застыл,
Зырянин лицом и с глазами фантаста…
На площади гомон, гармоника, дым,
И двое встают над голодным народом.
За кем ты пойдешь? Я пошла за вторым —
Романтика ближе к боям и походам…
Хоть никогда и не приходило мне в голову, что это — протез, но что-то в этих строчках всегда вызывало некоторое недоумение. Керенский (это ведь он «храня опереточный пыл, вопил и мотал головою ежастой»), как к нему ни относись, для многих все-таки был фигурой романтической. Чего о Ленине никак не скажешь. Ленин в стихах даже самых горячих его поклонников всегда представал олицетворением самого трезвого реализма. И почему Романтика, которая «ближе к боям и походам», из этих двоих должна была выбрать Ленина, провозгласившего немедленный мир «без аннексий и контрибуций», а не Керенского, призывавшего к войне до победного конца?
Это мое недоумение разъяснилось, когда я узнал, что вместо строк про Керенского и Ленина в стихотворении раньше были совсем другие.
Вот эти:
Я знаю, как время уходит вперед,
Его не удержишь плотиной из стали,
Но грянул суровый семнадцатый год
И два человека над временем стали…
И первый из них был упрям и хитёр.
Бочком пробирался, стыдясь и робея.
Другой, волосатый, — провизор, иль чорт, —
Широкий в плечах и с лицом иудея.
На площади гомон, гармоника, дым,
И двое горланят над шалым народом.
За кем ты пойдешь? Я пошла за вторым…
Теперь понятно, почему Романтика, которая «ближе к боям и походам», — пошла за вторым: ведь этим «вторым» из тех двоих, что «над временем стали», на самом-то деле, оказывается, был у Багрицкого не Ленин, а — Троцкий.
В Союзе писателей обсуждали только что появившийся рассказ Александра Яшина «Рычаги». Он наделал тогда много шуму. Дело было не в каких-то особых его художественных достоинствах, а в самом его сюжете. Сюжет же был прост до чрезвычайности: три человека сидят и разговаривают в комнатенке правления колхоза. И из разговоров их видно, что это — нормальные, все понимающие, думающие и, в сущности, хорошие люди. Но через несколько минут выясняется, что это не просто трое случайно разговорившихся людей, а — партгруппа. И сошлись они здесь не просто так, а пришли на партсобрание.
И вот открывается это их собрание, и перед нами в тот же миг оказываются совсем другие люди. Они говорят уже не то, что думают, а то, что полагается говорить на таких собраниях. И ведут себя не как живые люди, а как автоматы, манекены, марионетки. Они уже нелюди, а — рычаги. И вскоре становится ясно, что действия этих «рычагов», когда они предстают в этом своем качестве, — не так уж безобидны. И для их односельчан (в том числе и для них самих), и вообще для дальнейшего течения жизни. Не то что не безобидны, а в полном смысле этого слова злокачественны. Становится ясно, что именно действиями вот таких рычагов, управляемых откуда-то сверху, и совершается все то темное, тупое и страшное, из-за чего жизнь в нашей стране день ото дня становится все гнуснее и невыносимее.
Я с тех пор не перечитывал этот рассказ, поэтому пересказываю его так, как он мне запомнился. Вернее, как я тогда его прочел.
Но даже если другие прочли его и не совсем так, зацепил, задел он многих. Было ясно, что этим рассказом своим Яшин попал в самый нерв, в самую острую болевую точку.
Об этом и говорили все выступавшие на том обсуждении — о самом больном. О том, что у всех накипело. Атмосфера накалялась, и накал этот уже давно перехлестнул ту невидимую черту, за которой начиналось недозволенное и даже опасное.
И вот в этой-то накаленной атмосфере один из участников обсуждения — не слишком известный детский писатель — человек осторожный и, как видно, слегка напуганный тем оборотом, который принял этот уже вовсе не литературный разговор, начал свое выступление так:
— Я различаю, — задумчиво сказал он, — понятия «рассказ» и «новелла»…
Сидящий рядом со мной и Юрой Трифоновым Борис Бедный шумно вздохнул:
— Счастливый человек!
Виктор Николаевич Ильин был оргсекретарем Московской писательской организации. Должность эта была кагебешная. Все оргсекретари — и в так называемом Большом Союзе, то есть в Союзе писателей СССР (сперва Воронков, потом Верченко), и в Союзе писателей РСФСР, и в Московском отделении были связаны с КГБ. Это ни для кого не было тайной. Когда Ильина на его посту сменил новый оргсекретарь, фамилия которого была «Кобенко» — язвительная писательская молва сразу дала ему прозвище: «Кагебенко».
Но Виктор Николаевич Ильин ни в каких прозвищах не нуждался. Он свою связь с «органами» не только не скрывал: он ее всячески подчеркивал и даже афишировал. Воронков и Верченко до назначения на свои должности были партийными функционерами (как и их предшественники — Щербаков, а потом Поликарпов). А Виктор Николаевич Ильин до того как стать оргсекретарем Московской писательской организации был генерал-лейтенантом КГБ. Объектом его тамошней деятельности были писатели, так что и в той, прежней своей жизни он был прикосновенен к литературе. Потом его посадили. Ходили слухи (вернее, он сам их распространял) — за то, что он не пожелал дать показания против своего товарища.