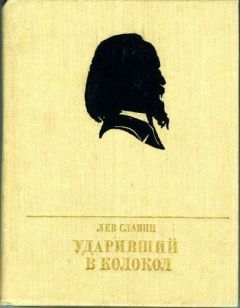Действительно, довольно скоро в руках у Герцена оказался заграничный паспорт «на шесть месяцев в Германию и Италию для лечения легких жены».
Поездки эти были так редки, что о каждой сообщалось официально в газетах. «Московские ведомости» не замедлили трижды напечатать публикацию о предстоящем отъезде Герцена.
Предотъездные хлопоты! Что брать с собой? Как обеспечить возки для поездки до границы? Как утеплить их — время-то зимнее! Сюда прибавились хлопоты по добыванию добавочных заграничных паспортов — ехала с Герценами большая компания: его мать, а также близкие друзья, Мария Федоровна Корш и Мария Каспаровна Эрн — в качестве гувернанток. Карла Ивановича Зонненберга, старинного гувернера Ника Огарева, перешедшего к Герцену на неопределенное секретарски-дружеское положение, кормилицу Татьяну и шубы предполагалось от прусской границы отправить вместе с возками обратно в Москву. А самим в пограничном пункте Таурогене пересесть в дилижанс. В европейский дилижанс!
Накануне отъезда, 18 января, Грановский устроил у себя прощальный вечер. Пришли все: Корши, Кавелины, Кетчер, Боткин, Щепкин, Чаадаев, Астраковы. Елизавета Богдановна Грановская была суха с Герценами, почти враждебна. А ведь хозяйка! Натали Герцен смотрела на нее чуть ли не с завистью: конечно, грустно, что она отшатнулась, но ведь ни капли притворства, никаких румян вежливости и приторных прикрас гостеприимства.
И это не просто дамская размолвка. Как бы ни наседали на Грановского со своими дружескими нападками Герцен и Огарев, никогда Тимофей Николаевич не примирится со смертью Станкевича и любимой сестры. Путем сложных духовных исканий, не прибегая к помощи религии, он выработал в себе веру в личное бессмертие, во встречу с любимыми там, в потустороннем мире. И этой верой Грановский заразил жену.
Когда Герцен в тот памятный день в Соколове наступил на веру Грановского своей тяжелой материалистической пятой, Грановский оскорбился. Но не мог побороть привязанности к Герцену.
А Лиза была фанатичнее своего мужа. Она напрочь порвала с Натали, с которой до того была в сестринском согласии, при этом на положении как бы младшей сестры, которую названая старшая обожала.
Не все друзья знали, насколько слитно духовное единение Грановского и Лизы, очень молодой, очень молчаливой, даже строго-молчаливой. Может быть, один Огарев несколько догадывался об этом, когда писал Грановскому:
…говорить со мной
Ты можешь только да с женой
О тайном внутреннем страданье…
Когда гости разошлись и Грановские остались одни, Лиза, хорошая пианистка, играла Моцарта, чтобы привести мужа в ровное состояние духа.
На следующий день, 19 января, провожающих опять большое общество. Тройки нанимал Сережа Астраков в Дорогомилове. Хоть и мороз был в этот день лютый — двадцать шесть градусов! — однако народу набралось на пятнадцать троек. Ямщики дивились: «Да так только царей провожают…»
Съехались в Черной Грязи, второй почтовой станции от Москвы по Петербургскому тракту. Пока меняли лошадей, Герцен дал друзьям прощальный обед. Все устраивал хлопотун Зонненберг, фазанов навез, шампанское исключительно трехрублевое.
Обед прошел в полном дружелюбном, согласии. По крайней мере внешне. Отъезд Герцена как бы сгладил противоречия, возникшие среди друзей. Конечно, уголья тлели, и, вероятно, жжение их ощущалось где-то в душевном подполье, но им не давали разгораться в пламя. Молчаливое соглашение. Даже Кетчер смирил себя и с немым обожанием смотрел на Натали, горюя о ее отъезде. В общем, прикидывались, что все заодно, что никакого «генерального межевания», по слову Герцена, среди них нет. Только Лиза, Грановская по-прежнему не вымолвила с отъезжающими ни слова. Рука ее в прощальном пожатии была холодной и вялой. Грановский же долго не выпускал Герцена из объятий. И успел шепнуть ему:
— Если бы не было на свете истории, моей жены и всех вас, я, право, не дал бы ни копейки за жизнь…
Прощаясь с Герценом, многие плакали: уезжая, он отнимал себя у друзей. Он составлял для них, как выразился один из провожающих, такую необходимость в жизни, что утрата его больно поражала их.
Позвольте! Какая «утрата»? Не навсегда ведь он уезжает. Да и сам Герцен был уверен, что через полгода вернется.
Из Рима он писал Анненкову в марте сорок восьмого года:
«…Полагаю остаться здесь не долее 1 апреля. Смотря по обстоятельствам — или в Питер, или к вам…»
В том же марте. Василий Боткин извещал Анненкова.
«Герцен еще в Париже; на днях писал, что намеревается будущим летом воротиться…»
Он не вернулся никогда.
Но он не отнял себя у России.
Цезарь лучше знал галлов, чем Европа русских.
ГерценПервые впечатления Герцена за границей похожи на ощущения узника, вырвавшегося на волю. Что ему до Кенигсберга! Он даже не пошел поклониться могиле того великого чудака, который жил в Кенигсберге, ни разу не покинув его, и знал только один путь — он проделывал его с постоянством часового механизма — из дому в университет и обратно.
А ведь сколько бессонных ночей потратил на него в юности Герцен, штудируя его как предтечу Гегеля и умиляясь единственному его резкому поступку: узнав о провозглашении во Франции республики в 1792 году, Иммануил Кант почтительно и благоговейно снял с головы свою бархатную профессорскую ермолку.
Но Герцену сейчас не до философов. Другие чувства владели им. Он бродил по ничем не замечательным улицам Кенигсберга, и ему казалось, что талый снег, который он месил ногами, — это земля свободы. Ибо это первый город, в котором он «отдохнул от двенадцатилетних преследований… почувствовал, наконец, что я на воле, что меня не отошлют в Вятку, если я скажу, что полицейские чиновники имеют такие же слабости, как и все смертные, не отдадут в солдаты за то, что я не считаю главной обязанностью всякого честного человека делать доносы на друзей».
Это чувство свободы до того непривычно, что ему казалось, что во всех прохожих есть какая-то прекрасная черта вольности, она выражается в их взгляде, в походке, в голосе — у всех без исключения. Все встречные, мнилось ему, «смотрят весело и прямо в глаза, и я стал смотреть весело и прямо в глаза…».
Но уже через месяц, попривыкнув к чувству освобожденности от отечественного гнета и приглядевшись попристальнее к окружающей обстановке, Герцен пишет московским друзьям:
«В Германии есть какой-то характер благоразумной середины и добросовестного порядка, который чрезвычайно противен».