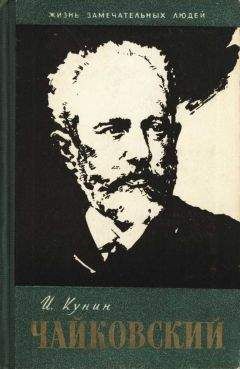Ознакомительная версия.
На эти недели и месяцы приходится еще одно знаменательное письмо — Апухтина. До нас не дошло послание Чайковского, на которое оно служит ответом. Как видно, он укорял своего друга за избранный им путь светского поэта, шутливо называя его придворным стихоплетом князя Голицына[21] и настоятельно убеждая смотреть на занятия литературой как на серьезный труд. «Касательно содержания твоего письма, — отвечал Апухтин, — я могу только удивляться странному противоречию: выражая разочарование в Голицыне и компании… ты в то же время, как наивная институтка, продолжаешь верить в «труд», «в борьбу»!.. Странно, как ты еще не помянул о «прогрессе»?! Для чего трудиться? С кем бороться?.. Убедись раз навсегда, что «труд» есть иногда горькая необходимость и всегда величайшее наказание, посланное на долю человека…» Между этой довольно плоской философией дилетантизма и понятиями Чайковского о жизни и об искусстве не было ничего общего. Впереди были два пути и два жизненных итога.
Прошло еще одиннадцать лет. 21 декабря 1877 года Чайковский написал брату: «Получил сегодня письмо от Лели[22] с чудным стихотворением, заставившим меня пролить много слез». Стихотворение кончалось словами:
А я, кончая путь «непризнанным поэтом»,
Горжусь, что угадал я искру божества
В тебе, тогда мерцавшую едва,
Горящую теперь таким могучим светом.
6 января 1866 года Петр Ильич, облаченный в необыкновенно старую енотовую шубу, которой его снабдил на прощание Апухтин, сошел с петербургского поезда и очутился на заснеженной площади города, которому суждено было стать колыбелью его творчества. Ничто не напоминало ему здесь Петербурга. Вместо геометрически расчерченного узора улиц — путаница живописных кривых улочек и переулков, с бесчисленными церквушками, садами, заборами, пустырями, со старинными барскими домами и подслеповатыми одноэтажными домишками бедноты, вместо деловитой военно-чиновной публики на тротуарах — непривычно пестрая смесь всех сословий и состояний, старомодные наряды, смешные шляпки, во всем — непринужденность и ненатянутость. Певучая московская речь с растяжечкой, с широким «а»: «перьвай», «церькавь», «скушно», «канешно» — и внезапный грозный окрик извозчика-лихача в малиновом поясе вокруг необъятного стана — «паберегись!», и облако снежной пыли в лицо… Здесь еще живы, верно, друзья Белинского и Грановского. Из-под нахлобученной меховой шапки вдруг блеснут умом и добродушием глаза коренного московского интеллигента, страстного спорщика, завзятого театрала. А вот и Лубянская площадь с фонтаном посредине. Снег густо запорошен сеном, длинная вереница заиндевевших водовозных кляч и оледенелых бочек стоит у водоразбора. Голубые дымки тихо курчавятся над кровлями. Деревня деревней! А вот и Малый театр. На просторный пустырь Театральной площади глядит восьмиколонный портик Большого театра, чуть подальше— Российское благородное собрание со скрытым внутри скромного здания торжественным Колонным залом. Скоро жизнь Чайковского окажется крепко связанной с этими тремя зданиями, московскими дворцами Драмы, Оперы и Симфонической музыки. Извозчик везет его вдоль бесчисленных лавчонок Охотного ряда, повертывает мимо Иверской часовни с золотыми звездочками на линяло-синем куполе и въезжает на Красную площадь. Величаво стоят кремлевские башни, в морозном воздухе купаются главы соборов, и словно движется навстречу Василий Блаженный со своими узорчатыми шатрами, переходами и пестрыми маковками. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! Здесь когда-то встретила Москва своих освободителей Минина и Пожарского, могучие чугунные изваяния которых — единственный памятник во всем городе. И глинкинское «Славься!» само поет в ушах. Здесь Разин с Лобного места перед смертью до земли поклонился московскому народу. Наполеон, покидая не покорившуюся ему древнюю столицу, в последний раз оглянулся на зубчатые стены Кремля…
Москва-река. Замоскворечье — страна, открытая Островским, темное царство Титов Титычей и Коршуновых, отгородившихся от мира саженными заборами, толстыми стенами, дубовыми воротами. За висячими пудовыми замками здесь бьются живые сердца, растет молодое, ветшает старое…
Заливисто лают псы, раскатываются сани на повороте… Стой! Приехали! Кокоревское подворье![23]
Всего неделю назад на торжественном обеде Русского музыкального общества в честь выпускников ом от имени учеников консерватории подписал приветственную телеграмму, на которой уже красовались росчерки А. Рубинштейна, В. Кологривова («от дирекции Музыкального общества») и знаменитого скрипача Г. Венявского («за всех профессоров»).
«Петербургская консерватория, — значилось в ней, — празднуя за обедом первый свой выпуск, пьет за преуспеяние будущей московской консерватории, от души желая успеха и впредь радуясь ему» [24].
Это была телеграмма из прошлого в будущее. Еще не родившаяся консерватория имени П. И. Чайковского получила пожелание успеха от своего будущего профессора.
Хотя мысль о переезде в Москву возникала у Петра Ильича и раньше, несомненно, под влиянием Лароша, прожившего в ней отроческие годы и поддерживавшего после отъезда в Петербург деятельную переписку с преподавателем Московских музыкальных классов Николаем Дмитриевичем Кашкиным, все произошло внезапно. Приглашенный в будущую консерваторию А. Н. Серов, перед которым сногсшибательный успех его оперы «Рогнеда» открыл заманчивую перспективу первенства в музыкальном мире Петербурга, взял в ноябре 1865 года свое согласие назад, и руководитель московского отделения Музыкального общества Н. Г. Рубинштейн явился лично подыскать подходящего кандидата среди кончающих курс учеников Петербургской консерватории. Когда он назвал известное ему от Кашкина имя Чайковского, оба учителя Петра Ильича, Антон Григорьевич и Заремба, единодушно посоветовали взять вместо Чайковского пианиста Г. Г. Кросса, который, кроме своей специальности, прошел также курс теории музыки.
Привыкший во всем полагаться на собственное суждение, Н. Рубинштейн пригласил к себе в гостиницу обоих кандидатов. Едва ли это была простая проверка их знаний. Ему нужен был не просто теоретик, но и воспитатель молодого поколения московских композиторов, товарищ и соратник в борьбе за музыкальное просвещение, человек, на которого можно было бы положиться. Многое решалось в этот миг. Остановись выбор на солидном, положительном Кроссе — и во многом по-иному сложилась бы на годы и годы музыкальная среда Москвы. Возможно, что иначе бы писали Танеев, Рахманинов, Скрябин, иначе бы пели Нежданова и Собинов, иначе играл бы Игумнов, иной была бы московская публика и московская критика. Но все устроилось как нельзя лучше. Вопреки полученным советам, Н. Рубинштейн решил выбрать Чайковского, который, как рассказывает Кашкин, «произвел на него прекрасное впечатление всем своим существом».
Ознакомительная версия.