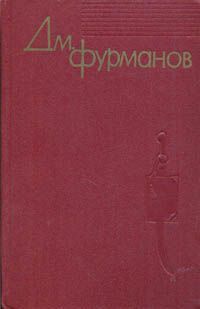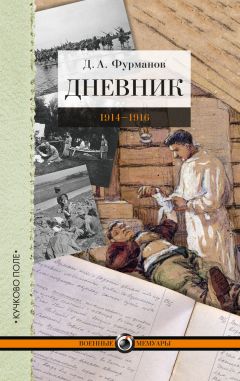Мы все ближе, ближе…
Все ярче огни — электричеством залит зал, заставленный цветами. Посреди зала, на красном — в красном — лежит Ленин: лицо бело как бумага, спокойно, на нем ни морщин, ни страданья — оно далеко от тревог, оно напоминает спокойствием своим лицо спящего младенца. Он, говорят, перед смертью не страдал — умер тихо, без корч, без судорог, без мук. Эта тихая смерть положила печать спокойствия и на дорогое лицо. Как оно прекрасно, это лицо! Я знаю, что еще прекрасней оно потому, что — любимое, самое любимое, самое дорогое. Я видел Ильича последний раз года два-три назад. Теперь, в гробу, он бледней, худей — осунулся вдвое, только череп — крутой и гладкий, — как тогда, одинаков. Вот вижу со ступенек все лицо, с закрытыми глазами, потом ближе и ближе — вот одна впалая щека и ниже ее чуточная бородка. Брови, словно приклеенные, четко отделяются на бледном лице — так при жизни они не выступали — теперь кажутся они гуще и черней…
Движется, движется человеческая цепочка, слева направо, вокруг изголовья, за гроб. Виден только череп… Блестит голой, широкой покатостью… И дальше идем — снова щека — другая, левая… Идем и оглядываемся — каждому еще и еще хоть один раз надо взглянуть на лицо, запечатлеть его в памяти, до конца дней запомнить. И снова по красным коврам идем, проходами, коридорами Дома союзов — выходом на Дмитровку. А у крыльца — толпа: тысячная, стотысячная, до Тверской, по Дмитровке — везде она волнуется, ждет очереди отдать последний поклон покойному вождю, любимому Ильичу.
МОИ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДЕЛА
Прежде всего: закончил две части «Мятежа» — первую отдал Раскольникову[49] в «Мол(одую) гв(ардию)», 2-ю в «Пр(олетарскую) рев(олюцию)».
Затем, с месяц назад, Госкино принят для фильма «Чапаев» — сценарий станут делать сами.
Мой сценарий прочли, говорят:
— Книга куда богаче. Вы и половины всего ее богатства не использовали.
— Ну что ж, — говорю, — делайте сами, мне все равно.
В конце лета, кажется, поставят.
Затем в Межрабпом[50] прихожу. Мне некоторые частные лица предлагают «Чапаева» переводить на нем(ецкий), фр(анцузский), англ(ийский), но я отказываюсь — черт их знает как переведут, да и заграничных изд(ательст)в я не знаю. Опасно.
— А книжка у вас с собой?
— Нет. Я занесу потом.
И тут же, на машине, в первом попавшемся магазине купил «Чапаева», отвез им.
Через день по телефону сращиваю:
— Ну как?
— Согласны. На немецкий пока будем переводить. Приезжайте договор заключать, да карточку свою захватите — так, чтобы орден Красного Знамени был…
— Ладно.
Через два дня пойду. Закончу.
Заказывали было они и книжку написать листа на 3 из гражд(анской) войны. Некогда. «Смена» просила — некогда. Отдел массовой литературы в ГИЗ на рец(ензию) присылает книжки — некогда. На «Прол(етарской) рев(олюции)» — тоже отказался.
Вот, вспоминаю: когда то все искал, а теперь только работай, только пиши, берут везде охотно каждый клочок, только подавай, да уж вдребезги писать-то некогда — очень крепко занялся «Мятежом». Хотелось бы кончить ранней осенью. Тогда пропущу 3-ю часть, а зимой, смотришь, выйдет и книга. Идут дела, идут неплохо.
Вошел во вкус! Ознакомился со всем и со всеми, всюду теперь знают и по редакциям — легко, свой человек. Это в нашем деле — немаловажная штука: верят тому, что чепуху не дашь. Отлично идет работа. Скорей бы уж кончить историч(еские) вещи да взяться за роман. Эх, охота!
О ПРЕДИСЛОВИИ К «ЧАПАЕВУ»[51]
Недели три назад сверкнула мысль: взять предисловия к «Чапаеву» и «Мятежу». Для «Мятежа» пишет Серафимович. Сегодня звонил Луначарскому.
— К третьему изданию «Чапаева» — дайте предисловие. Вы знаете книгу?
— Как же, знаю, знаю. Я бы с удовольствием… Да времени нет. Мне потребуется не меньше недели…
— Неделю можно, — говорю ему, — даже десять дней можно…
— Хорошо. Напишу.
— Прощайте.
— Прощайте.
Вот я ему и даю этот материал — прилагаю, чтоб быстрей, скорей написал.
БАБЕЛЬ
Он был дважды, и дважды не заставал меня. 5 часов. Все ушли. Сижу один, работаю. Входит в купеческой основательной шубе, собачьей шапке, распахнут, а там: серая толстовка, навыпуск брюки… Чистое, нежное с морозцу лицо, чистый лоб, волоски назад черные, глаза острые, спокойные, как две капли растопленной смолы, посверкивают из-под очков. Мне вспомнилось: очкастый! Широкие круглые стекла-американки. Поздоровались. Смотрим пристально в глаза. Он сел и сразу к делу:
— Вы здесь заведуете современной литературой… Я знаю… Но хотелось бы вам еще сейчас кое-что сказать, просто как товарищу… Вне должностей.
— Конечно, так и надо.
— Я вам опоздал все сроки с «Конармией», уже десять раз надувал. Теперь просил бы только об одном: продлить мне снова срок.
— Продлить-то что не продлить, — говорю, — можно. Только все-таки давайте конкретно, поставим перед собой число, и баста.
— Пятнадцатое января!
— Идет.
Порешили, что до 15 января он даст мне всю книгу[52]. А дело с ней так: глав до 20-ти в общем написано, напечатано; 20 — написано, но не напечатано, это просто будут звенья, цементом для других. 10 пишутся — это главы большие, серьезные, в них будет положительное о коннице, они должны восполнить будут пробел… Всего 50 глав.
Живет Б(абель) в Троице-Сергиевском посаде[53]. Условия для творчества наилучшие. Тишь. Живет вдвоем с матерью.
— Почуяли вот только разные ходоки и посредники, что я ходкий товар, — отбою нет от разных предложений. Я мог бы, буквально, десятки червонцев зарабатывать ежедневно. Но креплюсь. Несмотря на то что сижу без денег. Я много мучаюсь. Очень, очень трудно пишу. Думаю-думаю, напишу, перепишу, а потом, почти готовое, — рву: недоволен. Изумляются мне и товарищи — так из них никто не пишет. Я туго пишу. И верно, я человек всего двух-трех книжек! Больше едва ли сумею и успею. А писать я начал ведь — эва когда: в 1916-м. И, помню, баловался, так себе, а потом пришел в «Летопись», как сейчас помню, во вторник, выходит Горький, даю ему материал: когда зайти?
«В пятницу», говорит. Это в «Летопись»-то!
Ну, захожу в пятницу — хорошо говорил он со мной часа 1 1/2. Эти полтора часа незабываемы. Они решили мою писательскую судьбу.
«Пишите», говорит.
Я и давай, да столько насшибал. Он мне снова:
«Иди-ка, говорит, в люди», то есть жизнь узнавать.