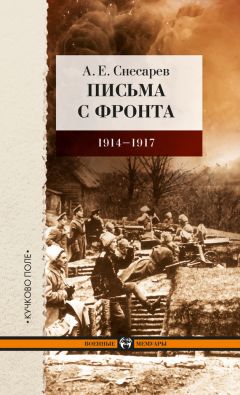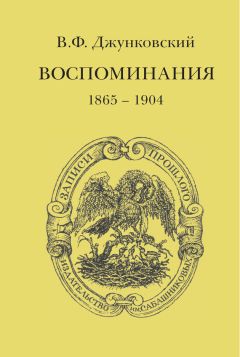Ознакомительная версия.
Вчера около 5 часов вдруг случился пожар во второй квартире, сожители высунули языки и остановить пожар уже не могли; мне было сообщено в тоне почти безнадежном, но твой супруг не поддался отчаянию и полетел на место. Через час-полтора пожар потух, и я с облегченным сердцем возвратился назад.
Только что меня посетил начальник бронебойного отделения, который переходит под мое начало, и мы с ним поговорили. Броневики недалеки от летчиков, это те же смертники, т. е. люди обреченные, и психика их одинакова. Иметь с ними дело и беседовать – большое удовольствие; это не люди, ползающие на брюхе и в нем сосредоточившие все свои надежды и помыслы, это люди, парящие над грешной землей и взирающие на ее земные вещи гордым взором орла. Сегодня ветерок сильнее обыкновенного, и воздушные птицы нас посещают реже, а отсюда меньше сцен забавных, меньше беспорядочной стрельбы и общей суеты.
Ты пишешь про большую у вас теплынь, про то, что дети, как заморенные индюшки. Мне невольно приходит в голову, как-то ты переносишь все это и насколько часто у тебя ходят пред глазами разные круги от оранжевых до черных включительно.
Сейчас я пишу, а около меня сидит Ник[олай] Фед[орович] (Станюкович), и мы с ним изредка перебрасываемся фразами. Сейчас он немного повеселел, и то приходилось над ним посмеиваться и поднимать его нос. Мы с ним живем вместе в землянке, ложимся одинаково в 10–11 часов, а встаем разно: я – около 7, а он – около 9. Он объясняет это тем, что его будят по ночам. Его действительно будят, но каждый раз пробуждаюсь и я, так что выходит одно на одно. Но он свое бужение ведет еще дальше: он считает себя вправе поспать еще часика полтора днем. Вообще, днем вся честная компания – офицерство и ребята (кроме дежурящих) – заваливается спать, и остается почти в единственном числе за столом твой супруг, то чем-либо занятый, то разминающий свои кости хождением взад-вперед. Вообще, наружная наша жизнь беззаботна и спокойна, а за столом у нас всегда стоит такой смех, словно мы все упились зеленым вином… Острят, как я тебе писал, поочередно над всеми, не исключая и своего начальника дивизии. Но что у нас происходит внутри, это знает только каждый из нас. Офицерство, великое и славное офицерство, если бы Россия знала, какой великий и беззаветный подвиг выполняет теперь эта группа российских пасынков. Вчера я застал офицеров, шатающимися от усталости и хриплыми от длительного красноречия; один из них, с нервными глазами и воспаленной кожей лица, сказал мне: «Я кончился, у меня нет сил, они добили меня…» – он был жалок до ужасов.
В один из эпизодов боя батальон не пошел на позицию, которая была оставлена другими, и горсть офицеров одна удерживала верстовую позицию, пока не пристыдили «православных». В другой – офицеры, будучи не в силах уговорить людей, выстроились впереди в шеренгу (по другой версии, солдаты поставили это условием, иначе, мол, мы не пойдем), пошли в атаку и… одиноко погибли: масса осталась в окопах. Конечно, все это не запротоколировано, это, если угодно, «слухи», но слухи вернее других достоверных фактов. 18.VI я весь день пробыл на наблюдательном пункте (точнее, я был все время вне его, чтобы лучше видеть, под всяческим огнем), и по всему тому, что я наблюдал, я могу сказать, что слухи говорят о фактах, и случаи служения офицеров родине были еще драматичнее, еще выше… И рядом с этим на страницах газет другие работники: об них вспоминают, им курят фимиам. Сегодня, моя роскошь, надеюсь получить от тебя еще письмо. Давай, золотая женушка, твои глазки и губки, а также наших малышей, я вас обниму, расцелую и благословлю.
Ваш отец и муж Андрей. Целуй Алешу, Нюню, деток. А.
Не забывай писать о Тане: Осип спрашивает и волнуется. А.
27 июня 1917 г.Дорогая моя женушка!
Вчерашний день пропустил, так как в часы писанья я был позван на корпусное совещание, которое продолжалось 4 часа. Пыльные дни сменились у нас сегодня влажным днем; почти весь день кропит дождь, переходя порой в сильный; мы вздохнули свободнее, а то пыль нас прямо заела. Позавчера у меня здорово болела голова, думаю, просто от переживаний, волнующих ум и сердце. Сейчас получил твое письмо от 15.VI, а вчера – от 16.VI. Письма твои хороши и спокойны, от них веет кое-какими надеждами. Ты, может быть, и права, так как если в стране мы подходим к гребню девятого вала (в Киеве непрерывные бунты, обыски, кулачные расправы и стрельба; в Петрограде и Москве солдатские движения, Кронштадт выгнал следственную комиссию и т. п.), то с другой стороны пробуждаются движения, ведущие к покою или хотя бы имеющие его в виду… частным образом много говорят о всеказачьем съезде в Новочеркасске, о съезде по выбору московского митрополита и т. п.
Я забыл тебе сказать главное: сегодня получил телеграмму от Архангельского: «Дармия Начдив 159 пехотной Генералу Снесареву Приказом 15 июня Вы пожалованы Георгием 3, поздравляю 17450. Архангельский».
Ты поймешь, моя золотая женушка, как я воспринял эту весть. Из начальников дивизий я, может быть, чуть ли не единственный кавалер Георгия 3-й степени, или нас отдельные единицы. Моя радость была бы в 10 раз более сильной, если бы обстановка была ласковее, но и за всем тем сердце мое преисполнено веселым жизнерадостным настроением. Воображаю, как обрадуется Сергей Иванович, который моей награды ждал с неменьшим нетерпением, чем я сам. Ну, об этом пока довольно.
Сегодня шлю телеграммы тебе, Архан[гельско]му и благодарственную в 64-ю дивизию. Куда делся Люткевич и кто такой этот полковник Попов, сказать тебе не могу… чтобы быть произведенным в генералы, он слишком молод. Может быть, его тянет Гутор, всегда к нему раньше благоволивший. Думаю, что на твое письмо ты получишь полные ответы.
Сейчас после дождя заиграло солнышко, и я из своей землянки выполз наверх к столику, за которым обыкновенно я и работаю. Кругом меня обыкновенно гудят православные, из тех, что нужны штабу: телефонисты, телеграфисты, рассыльные, полицейские и т. п. Хотя это народ и более культурный, но «мать» ими нет-нет да и культивируется, и тогда раздается голос твоего супруга, возвращающий горячих людей к норме. И как я не люблю эту «мать», хотя боготворю идею и благоговейно чту память меня родившей: шум может стоять адский – я пишу и занимаюсь, как ни в чем не бывало, но вот прозвучало слово «мать», и я весь встрепенулся, вскочил, нашел виновного и подвергаю его ругани и насмешке. Твоя жанровая картина об Ольховатке удивительна, я хохотал, хохотал и Ник[олай] Фед[орович], которому я читал относящиеся строки. Бабы народ прочный и довольно консервативный, их появления на сцену «товарищи», очевидно, не рассчитали, и оказалось, что против бабьего митинга или сборища они совершенно бессильны. Разогнать их пожарной кишкой, а тем более пулей (да баба наша посмелее нынешнего воина: ее не запугаешь) не позволяет статья (такой-то номер) их партийного трафарета – надо людей убеждать разумным словом, а повести бабу на классовых интересах, на ненависти к буржуям или вообще на социалистических помочах – так ведь баба слишком разумна и практична, как мать, домоседка и собственница (все таки печка да горшка два есть), чтобы попасть в товарищеские шоры, да сверх того ее к этому и не готовили. Вот она теперь и разошлась: в деревне вышибает мужика, в Киеве осматривает дома и проверяет запасы.
Ознакомительная версия.