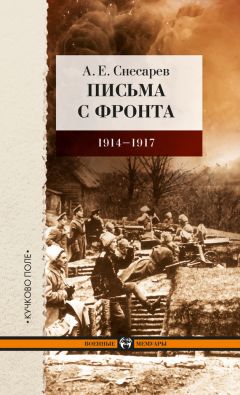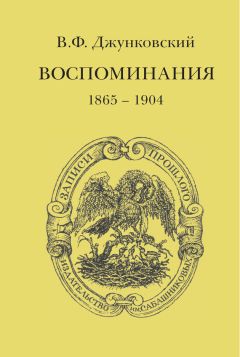Ознакомительная версия.
Я пишу тебе письмо, сидя за столиком в своей землянке, а рядом со мною на кровати лежит Ник[олай] Федорович, курит папиросу, и мы с ним перебрасываемся фразами. Он болен желтухой, и ему предписано больше лежать, что он и делает; он ест только молоко и кашу. Ему советовали ехать недели на две в госпиталь, но он отказался, надеясь отойти здесь.
Я отрываюсь от письма и говорю ему о моей жене, какая она у меня прочная, какая патриотка и как ей понравится как поклоннице офицерского ратного труда выписанное мною стихотворение. Я говорю ему обходами, но, вероятно, настолько тепло, что мой слушатель глубоко задумался, и на лице его я отгадал думу, – он понял, как люблю я свою женку, как мне нравится ее прочное красивое миросозерцание и что кроме нее я никого не любил, не люблю и не буду любить… Потом он мне бросил фразу: «А вы так иногда шутите по адресу женщин… я вас теперь понимаю…» Я ему говорил о моих мальчиках, особенно о Кириленке, как о будущем военном… «И даже, – говорит он, – в случае милиции». «Я думаю, это дело не изменяет: родину всегда должен кто-либо защищать или быть готовым к защите, а наш второй мальчик носит в груди подходящее для такого грозного и великого дела сердце…» Мое настроение лучше. Может быть, оттого что, получив дом расстроенный и много хуже, чем у других, я с честью выхожу из первого испытания. Были недочеты, но они так мелки по сравнению с другими, что об них и говорить не стоит. Может быть, потому что начинают задумываться и искать выходы, а это создает почву под ногами.
Сейчас выскакивал и смотрел толпы бредущих защитников отечества… я с казаками смотрю на них, и мне обидно, что идет дождь и я не могу сфотографировать этой тяжкой картины. Я тебе писал, что приказом 15.VI я награжден орден[ом] Св[ятого] Георгия III степ[ени]; мне об этом телеграфировал Архангельский, я его поблагодарил, а также послал телеграммы тебе и благодарственную в 64-ю дивизию. У меня в дневнике написаны 32 кавалера Георг[гия] III, из коих 16 ушли… я думаю, на фронте нас теперь не больше 25–30 человек. Давай, моя радость, твои губки и глазки, а также наших малышей, я вас обниму, расцелую и благословлю. Ваш отец и муж Андрей.
Целуй Алешу, Нюню и мальчиков. Как здоровье Мити?
А.
2 июля 1917 г.Дорогая моя женка!
Вчера получил твое письмо от 22.VI. Писем моих у тебя еще нет, и сначала ты волновалась, особенно 19.VI, а потом пошли вести о нашем наступлении, и ты этим пока еще развлечена. Я это сказал Станюковичу еще когда получил твое письмо от 19.VI; оно меня, конечно, заволновало. Я сказал Ник[олаю] Федор[ови]чу: «Жена должна ждать моего письма еще 4–5 дней, и хорошо, что она развлечется наступлением, а то бы ей пришлось волноваться еще почти с неделю». 19.VI ты была тревожна, и я объясняю следующим: 18.VI был бой, впечатление от которого у меня в дневнике определено так: «Возвратился ночевать в свою землянку усталый и с тяжелым сердцем: нет веры и надежды». Могло и это мое настроение долететь до моей женки. А 19.VI я целый ряд часов провел в исследовании позиции, занятой одним из моих полков, и все время был под огнем, готовясь через день атаковать врага. Скорее первое могло дойти до моей женки, т. е. заключительное настроение от 18.VI и пребывание в этот день в бою, когда трескотня была страшная, мимо свистели пули, и от снарядов кругом валились деревья… Я думаю, что теперь моя женушка уже систематически получает мои письма, значит, связь вошла в норму, – для этого было нужно не меньше двух недель.
Завтра один из офицеров моей дивизии идет в Петроград, и я напишу папе письмо. Подп[олковник] Крылов мне говорил, что он был у папы до четырех раз и ни разу не мог его застать. Попрошу папу, чтобы он выслал мне текст описания моего подвига, за который я получил Георгия. Приказы армии и флоту до нас теперь доходят с опозданием чуть ли не до двух месяцев. Текст моей телеграммы в 64-й дивизии, о чем я тебе уже писал, таков: «Начдив 64 за подвиг 15 ноября прошлого года во главе 64 дивизии я получил Георгия III степени. Бью челом пред славной дивизией и от всего моего сердца шлю ей мое спасибо за доставление мне высокой боевой награды Г[енерал]-М[айор] С[несарев]». Ответа еще не получил. Да и вообще никто меня еще не поздравлял – ни Ханжин, ни Павлов, ни другие; первые два не преминут. Сейчас Шепель звал меня к телефону и сообщал, что противник донимает его артиллерией, гвоздя его окопы. Приказал двум из наших батарей открыть огонь с нашей стороны. Все это только пустой нервоз; в прежнее время мы к артиллерийскому огню были далеко не так чувствительны. Ничто меня так не поражает в теперешнем православном, как его психика, совершенно новая: страшная, чисто паническая впечатлительность, необыкновенная претенциозность и почти притупленное чувство долга… откуда это все, Бог знает! Или это и раньше было, да было скрыто или просто задушено железной дисциплиной, или это появилось теперь, когда нашему воину дано право рассуждать и он вывернул свое нутро, запугал себя, запугал других и вылился в паническое существо, лишенное долга, лишенное высокой любви к высоким вещам.
Около меня недавно был Володя Шишкин, я думал, что это какой-либо другой, но когда на мой вопрос ответили, что это Владимир Иванович, и я хотел поболтать с ним хотя бы по телефону, его часть снялась и исчезла из моего горизонта. Почему он явился сюда из Франции и как ему живется, я так и не узнал. Вообще, мы на войне бываем бок о бок с хорошими знакомыми, но часто пропускаем этот момент и разлетаемся в стороны; всё оттого, что мы заняты, нервно прикованы к заколдованному кругу боевых идей, и всё, вне их существующее, плывет незаметно для нашего рассеянного и воспаленного взора.
После двух дней дождя сейчас как будто перестало моросить, и мы немного вздохнули. Теперь для нас и дождь является фактором, и с грязью мы должны считаться, словно какие-то кисейные барышни… и это относится к той же измененной психике. Мне сейчас строят просторную и хорошую землянку, но строят ее так медленно, что мне смотреть тошно; сегодня саперы прокопались что-то пять часов и ушли. Я не могу по этому поводу сказать что-либо (дело, лично меня касающееся, да и не мною начатое… я готов был хоть все время оставаться в своей землянке старой), но смотреть противно, а между тем вся Россия так работает – мало и вяло. И тщетно взывают к людям наши министры, и попусту печатают они звонкие воззвания… бедные дети, когда же они поймут, что мир иначе построен – грубее, примитивнее, эгоистичнее – и что жизнь нашу нам не дано перестроить. Вообще, по поводу новизны у нас ходят словечки и стишки, напр[имер]:
Рубили немцев, как котлеты,
Теперь лишь ходим в комитеты.
Это в кавалерии. Генюше сейчас шьют сапоги, но потрафят ли? Я приказал шить на крупного мальчика 13 лет, а данную тобой мерку только что нашли, и я ее посылаю завтра для корректирования. Твои письма (кроме 19.VI) спокойны и полны уюта, и мне иногда страшно больно, что твой розовый взор я иногда могу смутить своим темным анализом, но, детка, это вырывается невольно, и тебе я врать не хочу… врать так много приходится, да и нужно бывает: толпа не должна знать даже и той пропасти, что лежит на ее пути, пока не подошла к ней вплотную. Давай, славная, твои глазки и губки, и наших малых, я вас всех обниму, расцелую и благословлю.
Ознакомительная версия.