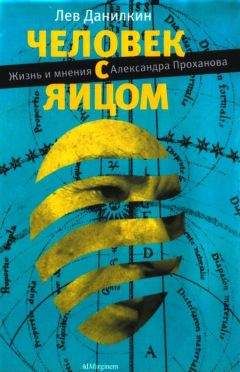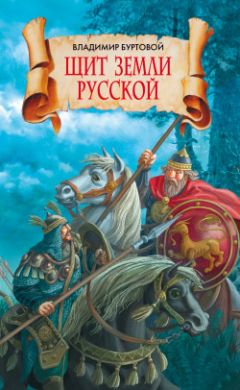Неочевидный интерес: у Проханова много книг, но мало читателей. Назначение романа «Господин Гексоген» «национальным бестселлером» выглядело оксюмороном. Как выразился в свое время некий Юмбло, отвергший от имени издателя Оллендорфа рукопись «В поисках утраченного времени»: «Возможно, конечно, это следствие моей ограниченности, но я не в состоянии постичь, зачем описывать на тридцати страницах, как человек ворочается в постели перед сном». Можно представить, как отреагировал бы этот нетерпеливый читатель на пятидесятистраничные мемуары о бабушкином бульоне и лиловых сосках африканской любовницы.
Читать Проханова без путеводителя может показаться так же скучно, как ездить по протяженной и невыдающейся в ландшафтном отношении стране (ничего личного) без проводника. Бесконечные отступления, блуждания по патриотическим катакомбам, босхианские ассамблеи, экзальтированные филиппики, литании красных духов; мне множество раз приходилось держать в руках в библиотеках прохановские романы, ни разу, судя по формулярам, не востребованные за двадцать, а то и тридцать лет.
Мне известны несколько людей, которые, испытывая к автору искреннее уважение, не готовы работать мачете, чтобы пробиваться сквозь сельву его текстов. Ученый С. Солнцев, не отрицающий, что «Проханов — прежде всего искренний и пламенный борец за Красную империю», подчеркивает, тем не менее, что «писатель он постольку, поскольку он борец за эту идею». Философа Дугина мне удалось поймать на слове в тот момент, когда спросил, похож ли, по его мнению, Проханов на генерала Белосельцева. После неловкой паузы — единственной посреди великолепного монолога-экспромта — он сказал: «Знаете, может, это не для книги, но я, честно говоря, ни одного произведения Александра Андреевича не читал. Это не принципиальная позиция, но так получилось. Не хочется его обижать, но…» Что «но»? Получается, он не воспринимал Проханова как писателя? «Знаете, избитая шутка: „Вы читали Бальзака? — Нет, я с ним обедал“. Такой яркий человек, веселый публицист и единомышленник… мне казалось, что при таком интенсивном взаимодействии литература может подождать — потому что для рефлексии, фиксации, параллельной, выдуманной истории нет места. Мы делали историю, мы могли написать призыв на баррикады и тут же пойти туда. Литература — осмысление, для нее нужен человек вне истории». Означает ли это, что даже среди сотрудников у него была репутация графомана? «Он человек действия, мне не интересны были продукты его литературной рефлексии, он был интересен как Актор». Впрочем, и Дугин с удивлением отметил, что даже «среди самых вменяемых людей» у Проханова находились читатели; хотя — «я некомпетентен, у меня консервативные литературные вкусы».
Итак, «всем» Проханов известен как невыносимо скучный конъюнктурщик-лакировщик-соловей Генштаба в советское время — и «красно-коричневый» графоман, показавший зубы после перестройки, когда ему пришлось расстаться со своим привилегированным статусом в иерархии обласканных властью лиц, которым он обладал в советское время. Это обывательское — «официальное» — представление, безусловно, имеет право на существование, и некоторые факты из биографии Проханова, не говоря уже о тех цитатах, которые легко выудить из его произведений, дают право выстроить модель его личности именно таким образом. Точный список претензий, прибитых на его доме коллективной Натальей Ивановой, выглядит следующим образом: антисемитизм, биоагрессивность, стилистическое дурновкусие, графомания, конъюнктурщина, политическая беспринципность, обскурантизм, ханжество.
Между тем, посвятив некоторое время тщательному изучению его творчества и проведя в его обществе несколько десятков часов, я бы не торопился соглашаться с этими претензиями. Кое-кто мог бы назвать этот список сводом заблуждений.
«Человек с яйцом» начинался как биография эксцентрика, отчасти даже «маэстро дурного вкуса»: человек предпенсионного возраста, швыряющийся бутылками с зажигательной смесью в правительственные бэтээры, «потомственный английский шпион», «кампучийский сатир отечественной словесности», автор небылиц о гигантских соленоидах, теле- и радиобуффон, превращающий самую скучную передачу в феерию. Автор будущей биографии воображал себя беспристрастным исследователем азиатских нравов и ненормативных стилистик: все мы так или иначе склонны искать себе не только идеальную пару, но и абсолютного Другого. Идти по следам этого старика с большим-большим приветом оказалось крайне увлекательно — я опускался в пещеры, поднимался на башни, угорал в бане, звонил в колокола, слушал голубые гнущиеся пластинки, поил лебедей кофе, бродил по царству слепых, посетил избушку колдуна, бандитский шалман, трапезную попа, редакцию журнала «Знамя» и логово гэкачеписта. Однако наслаждаясь обществом «безумного дервиша», культивирующего познание через мистический опыт, «дионисийское» откровение, я столкнулся с тем, что сам объект всю дорогу очевидно оставался в высшей степени «аполлоническим» интеллектуалом, проницательным аналитиком и расчетливым мудрецом; и не так уж просто было смоделировать концепцию, объясняющую, как уживаются в одном человеке две противоречащие друг другу натуры; это заняло какое-то время. Я глубоко благодарен Проханову за то, что фактически он подарил мне этот конфликт, эту коллизию, этот сюжет, надиктовав мемуары, с которыми сам бы справился бесконечно сноровистее.
Примерно десять лет спустя после эпизода с «Держись, народ!» у меня появилась возможность рассмотреть низвергнутого с трибуны горлодера с более близкого расстояния: лицо в возрастной гречке, сарматский шлем седых волос, крупный, в старческих свищах, нос, покрытый багровыми капиллярными рисунками, надменные тонкие губы, золотая коронка, обильные, баварского производства, пальцы. Примечательно: если абстрактный «Проханов» воплощает все то, к чему я привык относиться скептически, то конкретный «Александр Андреевич Проханов» необычайно аттрактивен. Выслушав мой отчет о сорванной благодаря ему попытке сходить в кино, Проханов объявил его фальшивкой. Ни в какой Музей кино, заверил меня он, 1 октября 1993 года я ходить не мог: в течение десяти последних дней Белый дом был оцеплен, на «Баррикадной» омоновцы сначала сбрасывали людей прямо по эскалатору — и те летели вниз, разбивая по дороге фонари, а потом гонялись за демонстрантами вдоль платформы, так что даже если бы мне удалось прорваться вверх, то меня затоптал бы бутсами клин цепных псов Ю. М. Лужкова. Но как насчет звука, который, сейчас понятно, исходил от омоновцев, грохотавших дубинами в стеклянные щиты? А бабка с рассыпавшимися беляшами? Я вспоминаю все это очень отчетливо. «В конце концов, — заметил однажды эксперт по такого рода вопросам Питер Акройд, — общая цель биографии — создать произведение искусства, которое было бы столь же убедительным, как роман, оставаясь столь же материальным и реалистичным, как история. Есть только одно различие: в романе от вас требуется говорить правду, тогда как в биографии вам позволено — а иной раз без этого вообще никуда — кое-что выдумать».