Дорогой длинною…
Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без неё не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без неё обходится.
И. С. Тургенев
Я не спеша собрал бесстрастно
Воспоминанья и дела…
А. Блок
Дорогой длинною,
Да ночью лунною,
Да с песней той,
Что вдаль летит звеня!..
Многое я помню ясно и отчётливо, но многое стёрлось в памяти. Что же осталось?
Лоскутки… Маленькие разноцветные лоскутки… Обрывки, клочки минувшего, обрезки и остатки. Ну что ж. Ведь из лоскутков можно сшить, например, одеяло. Или даже ковёр! Правда, он будет пёстрым, но и вся жизнь моя была пестра. Приукрашать и облагораживать прошлое, подгонять то, что сберегла память, под сегодняшние уже зрелые взгляды и понятия мои мне не хочется. Эта книга даже не мемуары. Это сильно потрёпанная записная книжка, найденная на самом дне сундука памяти, добрая половина страниц которой вырвана или унесена ветрами времени. Книжка человека, у которого было немного свободных минут, ведь для того, чтобы прожить на чужбине, — надо много и тяжело работать. Все же кое‑что в ней сохранилось. Самым уязвимым местом этих отрывочных воспоминаний будут, конечно, даты. Иногда помнишь само событие, но когда оно было? В каком году? Этого память не удержала. Итак, начнём с детства.
Я смутно помню себя ребёнком трёх-четырёх лет. Я сидел в доме у своей тётки Марьи Степановны на маленьком детском горшочке и выковыривал глаза у плюшевого медвежонка, которого мне подарили.
Лизка, горничная, девчонка лет пятнадцати, подошла ко мне и сказала:
— Будет тебе сидеть на горшке! Вставай, у тебя умерла мама!
В тот же вечер меня привели на квартиру к родителям. Они жили на Большой Владимирской в 43‑м номере. Дом этот в Киеве стоит и до сих пор, выходя двумя парадными подъездами на улицу.
Очевидно, для утешения мне дали шоколадку с кремом.
Мать лежала на столе в столовой в серебряном гробу вся в цветах. У изголовья стояли серебряные подсвечники со свечами и маленькая табуретка для монашки, читавшей Евангелие.
Быстро взобравшись на табуретку, я чмокнул маму в губы и стал совать ей в рот шоколадку… Она не открыла рта и не улыбнулась мне. Я удивился. Меня оттащили от гроба и повели домой, к тётке. Вот и все. Больше я ничего не помню о своей матери.
Отец не был официально женат на моей матери, так как ему не давала развода его первая жена Варвара, пожилая, злая и некрасивая женщина. Много горя принесла она моей матери, и после того как родились дети — сперва сестра Надя, а через пять лет и я, — отцу пришлось «усыновить» нас. Когда мать умерла, Надя осталась жить у отца, а меня отдали тётке Марье Степановне, сестре матери.
Марья Степановна была молодая, красивая, своевольная и капризная женщина со всеми характерными чертами, свойственными её дворянскому сословию, из которых главное было — самодурство. Поскольку отец не мог жениться на моей матери, союз их рассматривался Марьей Степановной как мезальянс, и мать моя — самая нежная и кроткая из всех четырёх сестёр и самая юная — пролила много слез, расплачиваясь за свою первую и последнюю любовь. Она была изгнана из семьи, родители не признавали ни её, ни её незаконного мужа. Тётки же мои, сестры матери, были добрее и не порывали связи с ней. Но отца моего тётки не любили, считая его «соблазнителем» сестры и виновником её «падения». Мне часто приходилось слышать из уст Марьи Степановны:
— Твой отец — негодяй!
Я обижался и верить этому не желал. В глубине детской души я твёрдо знал, что мой папа чудный, добрый и красивый.
По профессии он был адвокат. И довольно известный. Уже потом, много позже, я узнал, что его очень любили и ценили как сердечного, отзывчивого человека и блестящего юриста. У него была огромная клиентура, почти сплошь состоящая из бедных людей, которых он защищал безвозмездно. Да ещё и помогал семьям своих подзащитных. На это нужны средства, и отец параллельно вёл громкие процессы, за которые получал большие гонорары.
Впрочем, денег этих не было видно. Куда девались они?
Этого никто не знал. Тщетно доискивались родственники. Деньги исчезали куда‑то. А жил отец скромно. Не пил, не кутил, не играл ни в карты, ни на бирже. Так или иначе, но после его смерти ничего, кроме подарков от клиентов, в доме не осталось.
Хоронили отца в маленькой Георгиевской церкви. Товарищи вынесли его гроб, чтобы поставить на колесницу катафалка, и вдруг… Огромная тысячная толпа каких‑то серых, бедно одетых людей, заполнившая площадь перед церковью, быстро оттеснила маленькую группку киевских юристов. Отобрав гроб с телом отца, толпа на руках понесла его к кладбищу. А колесница везла венки.
Никто ничего не мог понять. Что это за люди? Откуда взялись они? Оказалось, все это отцовская клиентура.
Какие‑то женщины вдовьего вида, старики, калеки, дети, рабочие, студенты, мелкие чиновники, «бывшие» люди — бедный и тёмный люд, дела которых он вёл безвозмездно, которым помогал и поддерживал. Они никого не подпустили к гробу, кроме меня и сестры (нас вела нянька). Ни одного человека. «Это было странно и страшно», — рассказывал мне потом один из его товарищей. Даже полиция не понимала, в чем дело.
Зато тёткам тут все стало ясно. Вот куда девались его заработки!
Смерть матери последовала от неудачной женской операции. Результатом её было заражение крови. Она сгорела в несколько часов. Отца не было в Киеве; уезжая по делу, он строго-настрого запретил ей это, но…
Застал её уже в гробу. По-видимому, он очень любил мать, потому что переживал её смерть тяжело. Постепенно его товарищи стали замечать за ним какие‑то странности. То он отказывался от самых выгодных процессов, то растрачивал свой темперамент на явно безнадёжные дела, точно желая пробить стенку лбом, то вдруг начинал «заговариваться». Иногда во время защитительной речи, когда дело уже почти было выиграно, он вдруг останавливался, точно к чему‑то прислушиваясь, и вдруг выходил из зала заседаний, а иногда и совсем исчезал из здания суда. Стали следить за ним. Оказалось, что он ездил на кладбище, где была похоронена мать. Как‑то ранней весной его нашли без чувств на её могиле. Он лежал ничком, во фраке, как был в суде, упал манишкой на снег, в распахнутом пальто. Его подняли, привезли домой. Он заболел… у него началась скоротечная чахотка. Больше он не встал с постели. Однажды у него горлом хлынула кровь. В доме не было никого, кроме десятилетней сестры. Она ещё догадалась подать ему таз, но поддержать его не смогла. Обессилев, он упал на подушку и захлебнулся кровью.


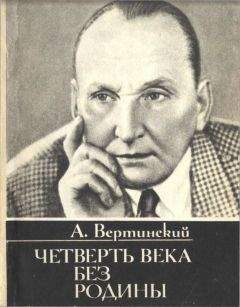
![Анатолий Добрынин - Сугубо доверительно [Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.)]](https://cdn.my-library.info/books/32820/32820.jpg)

