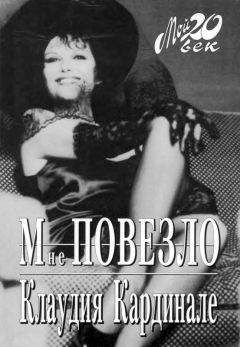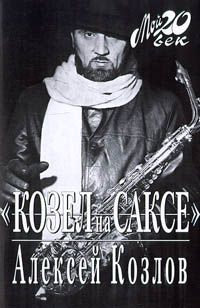С того далекого 1962 года, когда ты получила письмо от крестьянина из Ла-Лазер и когда мы с тобой встретились впервые, до появления на свет этой книги, выстроенной на материале всей твоей жизни, прошло тридцать три года. Но за все эти тридцать три года тебе, на мой взгляд, удалось сохранить в неприкосновенности свою тайну. Думается мне, что в ней и тайна твоего успеха: людям все еще так хочется смотреть на кого-то, о ком интересно узнать что-то новое, понять что-то еще… Если все ясно, зачем смотреть, знать и понимать?
Общаясь с тобой, я стала увереннее судить об очень важных вещах. Одна из них — это потребность в свободе. В свободе вполне осязаемой и конкретной. В свободе, так необходимой тем африканским зверям, на которых ты похожа. В свободе уходить и приходить, прятаться, чередовать периоды притворной дремотности с моментами отчаянной смелости и риска. В свободе, которая позволяет тебе все так же отстаивать право не быть всегда одной и той же скучной Клаудией, а иметь два… три своих двойника. В общем, Клаудией бунтаркой и Клаудией смиренной. Клаудией простой, почти неприметной и Клаудией кинозвездой, время от времени повторяющей свои успехи. Клаудией независимой и Клаудией… зависимой…
И еще в одном я сегодня совершенно уверена — в твоей искренности. Книга, которую мы с тобой вместе написали, абсолютно искренна. Кто любит молчание, как ты, любит его из величайшего уважения к словам. «Слова — камни», — говорил поэт… А твое молчание — это молчание твоей Африки, ее бескрайнего звездного неба, ее безграничных горизонтов, ее пустынь. Есть еще молчание тех, кто привык ценить не только то, что говорит он сам, но и то, что говорят ему другие. Это необычно для актера или актрисы, чья профессия — притворство.
Ты же, Клаудия, как явствует из этой книги, не только актриса…
С нежностью Анна Мария.
С чего же все начинается?
С Африки, моей Африки. С Туниса — города, в котором я родилась. В памяти сразу же воскресает образ первого дома, где мы жили, дома на проспекте Жюля Ферри… Теперь он переименован в честь президента страны Хабиба Бургибы.
Идет война. Вероятно, объявлена воздушная тревога, но либо я ничего не слышу, либо это уже выветрилось из памяти.
Начинается бомбежка, грохот невероятный, ужасный. Мы все дома: отец, мать, я и моя сестра Бланш. Детский рев заглушают разрывы бомб. Отец и мать берут нас на руки: я на руках у отца, сестра — у матери. Мама сует нам в рот кусочки рафинада: этим проявлением нежности и неожиданного расточительства надо отвлечь нас от страшного грохота… Ну да, ведь мы тогда жили бедно, примерно так, как и все во время войны, когда нельзя было достать никакой еды, тем более — соли или сахара.
Странным был дом, в котором я родилась, — что-то вроде приюта для ветеранов войны — огромный, с тремя дворами.
Помню нашу квартиру на первом этаже — длинный коридор, справа гостиная, где стоит и кровать, на которой мы спали вместе с сестрой.
Мы с Бланш начали свою жизнь в прилично обставленной гостиной среди папиных книг. Вокруг книжные шкафы и другая традиционная для 40-х годов мебель, громоздкая и тяжелая, — сейчас она во Франции снова вошла в моду и стоит бешеных денег.
Особенно мне запомнился стол — большой, внушительный, прочный. Мать покрывала его кружевной скатертью, спускавшейся чуть не до пола, и мы с сестрой устраивали себе под ним свой «домик».
Дальше по коридору шла спальня родителей, кухня и тесная ванная комната, вернее, крошечный закуток с умывальником и тазом — ванны не было, купались в больших лоханях, стоявших снаружи.
Папа работал инженером на железной дороге, занимался там всякой техникой, например укладкой рельсов. Он был сицилийцем, сыном сицилийских коммерсантов, переехавших в Тунис еще тогда, когда страна была не французским, а английским протекторатом. Помню, что он прекрасно говорил — как, впрочем, и сейчас — на сицилийском диалекте итальянского и на французском, а также на арабском. Помню и его родителей: бабушку — толстушку с большими синими глазами, и дедушку — очень высокого усатого красавца.
Папа тоже очень высокий, как дед. Моя мать его обожала, говорила, что он просто чудо — вылитый Кларк Гейбл. О том же свидетельствуют и фотографии: папа на них очень хорош, такой элегантный, стройный. Одевался он во все белое и водил автомобиль с откидывающимся верхом. Не знаю, всю ли жизнь было так, но для матери он до сих пор остался таким, как на фотографиях. Не просто мужчиной, а легендой.
Моя мать… У нее тоже сицилийские корни, она из семьи корабелов. В Тунис дедушка приплыл на собственноручно построенном суденышке и обосновался в районе старого порта, где осело особенно много итальянцев. Там он продолжал заниматься своим ремеслом. До сих пор помню его элегантнейшие парусные лодки — дерево и белая парусина…
Мама была предпоследней из оставшихся в живых пятерых детей. А всего в семье было то ли семь, то ли восемь детей, не помню точно.
Я родилась дома, на супружеском ложе родителей. Историю моего рождения мне рассказывали десятки раз. Я чуть не умерла от удушья, так как пуповина обвила мою шею четырьмя петлями и лицо у меня уже посинело. Принявшая меня мамина свекровь закричала даже: «О, Господи, она чернокожую родила!»
Мать рассказывает об этом со смехом, а ведь бедная бабушка была и испугана, и шокирована.
Меня долго звали мужским именем Клод, и довольно долго я была «мальчишкой» не только по имени, но и по повадкам, яростно отвергая всякую женственность.
Моя мать постоянно смеялась, она была очень улыбчивой, жизнерадостной. Вот такой я ее и помню с самых первых дней моей жизни: светлое, сияющее лицо и губы, всегда, даже в самые тяжелые минуты жизни, готовые улыбаться. И еще она пела, пела дома, у плиты, хлопоча по хозяйству. Голос у нее был прекрасный. А отец обожал скрипку и иногда даже выступал с ансамблем перед публикой.
Папа был — и все еще остается — красивым мужчиной, но и мама ему не уступала. Брюнетка с короткой стрижкой, она всегда носила одежду мужского покроя и берет. Красивая фигура, красивые волосы, очаровательная улыбка. В школе она хорошо училась, но учение не продолжила: в те времена девочкам редко давали возможность учиться дальше. Мама была веселой в отличие от отца — человека хмурого и тихого. Правда, в проявлении чувств и мама была сдержанна: нас с Бланш и обоих младших братьев растили без сюсюканья и бесконечных поцелуйчиков, как водится сегодня.
Возможно, это обычная ностальгия, но я вспоминаю те лица, те места, тот дом и даже бомбежки, как что-то прекрасное и даже веселое.