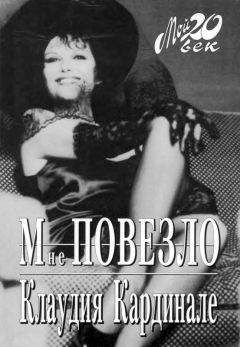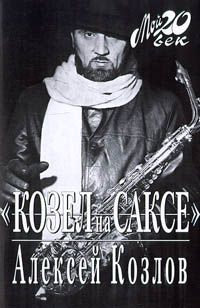Возможно, это обычная ностальгия, но я вспоминаю те лица, те места, тот дом и даже бомбежки, как что-то прекрасное и даже веселое.
Потом была бомба. Это случилось во время одной из первых бомбардировок города. Все мы были дома. Очевидно, летчики метили в порт, а наш дом находился от него в двух шагах. И вот, когда мама запихивала нам в рот кусочки сахара, чтобы унять наш рев, одна из бомб упала прямо во двор и разрушила дом почти полностью. Наша квартира чудом уцелела. Помню, посреди двора я увидела валявшуюся вверх ногами убитую лошадь — первый труп в моей жизни.
Отец решил, что нам надо переехать. Наше новое жилище находилось в районе аэропорта. В отличие от того, первого, большого здания это был маленький домик на берегу Средиземного моря.
Опять мы занимали первый этаж. Вход был прямо с пляжа: небольшая лесенка вела на просторную террасу. Потом шли передняя, кухня, коридорчик, наша с сестрой комната, большая комната родителей с балконом. Затем еще одна лестница вела вверх, на другую террасу, где стояли большие лохани для купания и стирки белья. Замечательное для нас, детей, место между небом и морем: было где разгуляться фантазии и совершенно свободно придумывать всякие игры, не опасаясь бомб.
Там же, в районе аэропорта, где мы прожили несколько лет, родились два моих брата. Сначала на свет появился Бруно. Помню, как мы с отцом и с Бланш проводили маму, у которой уже начались схватки, до места, куда должен был подъехать грузовик, чтобы везти ее в больницу: другого транспорта не было. В памяти воскресает картина: мама, с большущим животом и искаженным от боли лицом, удаляется от нас на каком-то странном и даже страшном грузовике, а я, Бланш и папа, стоя на дороге, машем ей вслед.
А потом появился на свет Адриано, наш самый младший.
Чтобы не отдавать какой-нибудь из дочек предпочтения, мама одевала нас одинаково: я помню наши одинаковые наряды из «зефира», состоявшие из блузочки и коротенькой, присобранной спереди юбочки, державшейся на бретельках-крылышках. Такие миленькие. Мама очень следила за тем, чтобы мы были хорошо одеты и ухожены, она заплетала нам тугие косички и покупала красивые туфельки, несмотря на финансовые трудности во время войны и в первые послевоенные годы.
Мы с Бланш, можно сказать, почти близнецы — между нами всего лишь год разницы, всегда жили дружно, хотя заметно различались по характеру. Она — медлительная, рассудочная, а я — сущее землетрясение, так что своей неуемной энергией, этакой «частицей черта» я в детстве порабощала сестру. Помню, после обеда у нас в семье было принято спать. Мы, дети, называли это «великим сном». И хотел ты или не хотел подчиняться этому коллективному ритуалу, а полную тишину соблюдать был обязан.
Я пользовалась этим, чтобы всячески досаждать сестре, которая в такой ситуации не смела ни сопротивляться, ни плакать. Во время сиесты я наряжала ее — чаще всего арабкой: мне нравились переодевания и всякая театральщина. Потом причесывала Бланш на свой лад и гримировала, короче говоря, всячески измывалась над ней. Она пыталась протестовать и едва не плакала, но я зажимала ей рот рукой: «Смотри у меня… не смей плакать и тем более кричать, ведь все спят». Вот так, сама того не желая и не отдавая себе в этом отчета, я воспитывала в Бланш детское безволие…
Наши отец и мать были родившимися в Африке сицилийцами, и естественно, что мы, дети, получили суровое воспитание. Мы должны были точно в назначенную минуту садиться за стол и во время еды не разговаривать. Никакой информации об интимной стороне жизни мы, понятно, не имели. Я довольно легко перенесла первую менструацию, так как была уже подготовлена подружками в школе. Но для сестры это была целая трагедия: она ничего не ждала и совершено ничего не знала. Помню, как она выбежала из ванной с криком «Папа!», за что получила от матери вместо разъяснения хорошую взбучку.
Сицилийцы народ суровый. Но даже в нашей, сицилийской семье атмосфера и порядки были совсем иными, чем в арабском семействе, жившем по соседству. Его глава был человеком богатым и могущественным, кажется, он ведал всеми тунисскими школами. У него было много дочерей. Помню, как они поднимались по деревянной лестнице на маленькую веранду. Низко опустив голову, они протягивали отцу большие блюда. Пищу он брал, разумеется, руками. А они ждали, когда отец насытится. Затем на тех же блюдах они уносили остатки еды вниз — для слуг и женской половины семьи…
Не знаю, запечатлелась ли в моем сознании реальная действительность или память подсовывает мне детские фантазии, но в том доме я видела рабыню в настоящих цепях. Стоя на коленях, она мыла полы… Она всегда стояла на коленях и терла и терла эти полы. Помню, как я, девчонка, проходя мимо, смотрела на нее и в душе ужасно возмущалась. Не думаю, что моя мама когда-нибудь позволила бы отцу подняться из-за стола и налить себе стакан воды: стакан она подносила ему всегда сама. И я бунтовала, с самого детства меня все это бесило. Хотя, когда мать заставляла меня и сестру (но только не братьев!) помогать ей накрывать на стол или убирать посуду, я подчинялась.
Я отыгрывалась за это в своих фантазиях и играх. Моей мечтой было стать, когда вырасту, следопытом. Играя с сестрой, я всегда выбирала мужскую роль. Игрушек у нас не было, они были недоступны, и я с помощью ножниц, карандаша и деревянной шкатулки создавала для себя воображаемый мир, которым забавлялась не один год. Ножницы служили мне мужским персонажем сказки: раскрытые лезвия заменяли пару брюк. Этот персонаж звался у меня «месье Пантэн», то есть синьором Буратино. И конечно же, у него была жена — карандаш — «мадам Пантэн».
Мы с Бланш передвигали ножницы и карандаш, придумывали всякие ситуации и диалоги: сестре, разумеется, отводилась женская роль — она управляла карандашом, а я — ножницами. Да, в детстве я вела себя как настоящий мальчишка, наверно, потому, что мне очень рано пришлось научиться защищать себя, никому не давать спуска…
В те времена итальянцам в Тунисе приходилось туго. В Тунисе, бывшем тогда французским протекторатом, считалось, что все итальянцы фашисты, союзники немцев и, следовательно, враги. Так, в первый день занятий в школе, когда учительницы, делая перекличку, интересовались национальностью учеников и я отвечала; «Итальянка», весь класс оборачивался. Все были готовы, едва начнется перемена, наброситься на меня с кулаками. Дело доходило до того, что учительницы, обычно любившие меня, стали произносить мою фамилию на французский лад, опуская в конце звук «е», чтобы выдать меня за француженку и спасти от враждебно настроенных соучеников. В то время мы были так бедны, что мама выкраивала нам пальто из одеял, а папа сам мастерил ранцы из легкой и тонкой фанеры. Я помню их прекрасно. Светло-коричневые, гладкие, они мне очень нравились. Но когда я впервые пришла в школу с таким ранцем, на меня накинулись с пинками и тумаками: такой ранец, видите ли, был слишком хорош для итальянки, я его не стоила…