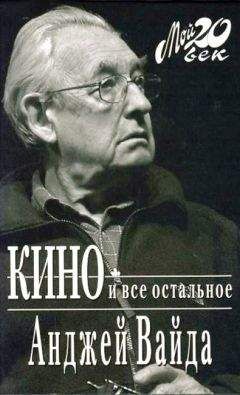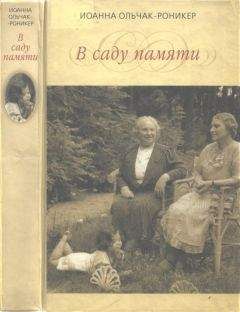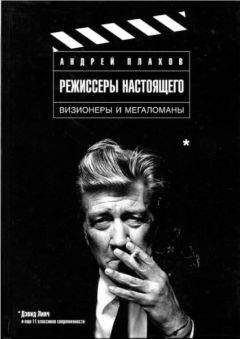Я был нормальным мальчишкой. Отец учил меня ездить верхом, Ангел Хранитель оберегал каждый шаг, а мать дрожала за мою жизнь, особенно после того, как весной 1942 года узнала, что я присягнул своему командиру в АК[3] всем святым, настолько святым и сокровенным, что в нашем доме не полагалось ни при каких обстоятельствах даже называть это вслух.
В военные же годы я прочитал незабываемую работу Юзефа Чапского «О Сезанне и живописном мышлении»[4]. Она отверзла мои слепые очи на мир искусств, после чего я вообразил себя самым авангардным художником в Радоме, где тогда жил. И все же картинки, которые сохранила память детства и которым знатоки искусства отказывают в самомалейшей художественной ценности, так и не стерлись из моего сознания. Наоборот — они постоянно ко мне возвращаются и обретают все новый смысл.
Кто меня воспитал? Родители: отец в мундире, всегда застегнутом высоко под горло; за отцом стояли воинские традиции чести и долга. Школа: классическая гимназия, культура Греции и Рима. Католический костел: божеские установления. С таким патриотическим и моральным багажом я вошел в войну 1939 года.
И что я увидел? Что совсем не обязательно объявлять войны: дело пойдет куда результативней, если внезапным нападением застать противника врасплох, то есть побеждают обман и вероломство. Что побежденных никто не защищает: слабые обречены погибнуть, поэтому можно спланировать истребление целых народов, а не только ликвидацию политических противников. Что искусство победителей — это всего лишь военные марши и агитплакаты. Я понял, что римское право и ценности средиземноморской культуры больше ни к чему. Должен ли я был с этим смириться? И мог ли обойти этот свой опыт, когда начал снимать фильмы?
* * *
Жизнь похожа на скучную пьесу в театре, но не стоит спешить уходить до конца спектакля. Я убедился в этом, когда весной 1946 года случайно оказался в подвалах управления госбезопасности на площади Свободы в Кракове. После многочасового допроса, сводившегося в основном к единственному вопросу, состоял ли я в АК, мой юный следователь, уронил голову на стол и провалился в беспробудный сон. Ящик, где лежал его пистолет, он оставил приокрытым. Из-за окна, пусть это и был четвертый этаж, манила свобода, бесконечная ночь допроса сменялась новым днем. Я ждал, сам не знаю чего. Может, мне было просто любопытно, что дальше, а может, именно тогда я понял, что видимость обманчива и мой преследователь, обученный в хорошей школе НКВД, только притворяется, что спит? В те дни в коридорах ГБ все время звучал язык советских консультантов наших преследователей.
В детстве я был болезненно робок. Мне очень хотелось стать служкой-министрантом в костеле, однако никак не получалось побороть застенчивость. Я назубок выучивал латинские тексты, но ни на минуту не переставал бояться, что забуду их, когда придет момент вторить ксёндзу. В 20-й радомской дружине харцеров меня выбрали командиром [5]. Я стоял перед строем ребят и не мог выдавить из себя слова команды. А ведь я вырос в казармах, постоянно слышал приказы, отдаваемые громкими голосами, и наставления, звучавшие всегда резко и безапелляционно. И сам я вот уже 45 лет, с того момента, как стал режиссером, беспрестанно командую на съемочной площадке. Все это странно. Видно, всему на свете можно научиться.
Всю свою молодость я прожил в надежде, что мир можно изменить к лучшему. Кино — искусство XX века — могло бы послужить этому особенно успешно. Мы верили, что люди разных рас, стран и континентов, узнав друг друга благодаря фильмам, сольются в дружбе и согласии. Между тем мир как был, так и остался тяжело больным, и предлагай не предлагай ему, как ребенку, новые игрушки, здоровее от этого он не становится. По вечерам в кинотеатрах показывают все новые фильмы, но упования на то, что благодаря им мир осознает свои вины и прямой дорогой зашагает к всеобщему счастью, куда-то испарились.
Сегодня не существует фильма для всех, а фильм для избранных для меня — нелепость. По-моему, это провал и катастрофа. Я вырос в старой традиции кино и потому всегда обращаюсь к залу, к уму и чувству тех, кто там сидит. Слова Сартра «ад — это другие» для меня — не более чем фигура речи. Другие и я — это сила. Я не согласен с суждением, согласно которому искусство кино несет в себе только и единственно сокровенную тайну художника, а зрители — всего лишь неизбежное, но необязательное приложение к фильму.
* * *
Фильм живет жизнью мотылька, редко когда дольше. Чтобы понять его успех или провал, надо знать обстоятельства, в которых он создавался и выходил на экран. Жизнь фильма — это прежде всего реакция зрителей, а также отзывы рецензентов и критиков. Работая над альбомом «Вайда. Фильмы»[6], подбирая фрагменты из польских и иностранных статей о своих картинах, написанных в Польше и за границей, я искренне себе удивлялся: откуда же я брал силы, чтобы делать новый фильм, если каждому очередному бывало отказано в каких бы то ни было достоинствах? И почему я не свихнулся от восторгов, которых тоже ведь немало в тех текстах? В голову приходит единственный вразумительный ответ: большинства этих рецензий я никогда прежде не читал. Еще во время съемок «Канала» у меня открылась язва двенадцатиперстной кишки, и врачи рекомендовали свести до минимума любые сильные переживания. Передо мной встал выбор: либо перестать делать фильмы, либо меньше интересоваться тем, что о них пишут рецензенты. Надо ли удивляться, что я выбрал второе?
Не так давно в телефильме «Дебет и кредит» я попытался составить баланс приобретений и потерь своей жизни. К потерям я причислил то, что никогда не имел времени (может быть, только раз, снимая «Березняк») внимательно всмотреться в природу, которая меня окружает. К сожалению, это касается не только листиков и цветочков. И к людям мне часто недосуг было приглядеться внимательно. Это огромная потеря. По-настоящему ее размеры даже трудно оценить.
Может быть, наступает момент, когда человек должен прекратить деятельность, которая вроде бы ведет его от успеха к успеху? Может быть, успех кроется совсем не там, откуда мы привыкли его ждать? Может быть, его определяют не те, кто на нас смотрит, а мы сами? Сегодня я не могу однозначно ответить на многие вопросы: хорошо ли я поступил в том или ином случае, был ли я в нужный момент там, где обязан был быть, и помог ли вовремя тому, кто нуждался в моей помощи? Да, я был счастлив, потому что моя стихия — это действие, движение. А, может, следовало сказать себе однажды: СТОП? Я не сумел на такое решиться. Правильно ли это? Беспокойство об этом никогда меня не покинет.