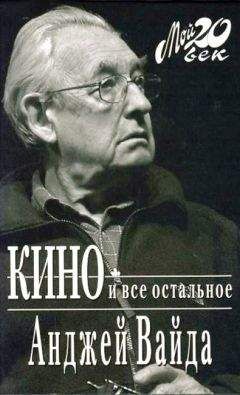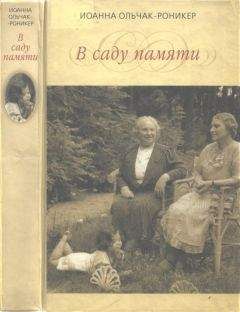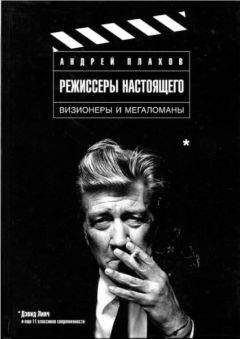Я видел своими глазами уходящий в небытие мир Польской Конницы. Мне довелось узнать необыкновенного человека — кавалериста, рассказы которого до сих пор волнуют мое воображение. Полковник Кароль Руммель, воспитанник петербургского пажеского корпуса, выпускник отделения батальной живописи тамошней же Академии художеств, офицер русской императорской армии в войне с немцами 1914–1918 годов, он обладал блестящим даром рассказчика. Обычно свои воспоминания он начинал в самый неожиданный момент. На фильме «Лётна» полковник был нашим консультантом. Однажды перед входом в здание, где разместилась съемочная группа, кто-то оставил велосипед. «Еще в Первую мировую войну, во время атаки, — внезапно начал полковник, — мы скосили семнадцать шеренг отступавшей германской пехоты». Потом посмотрел на свою ладонь и продолжал: «И что интересно, я совершенно не отбил себе руку, в то время как мои товарищи — все как один — на следующий день ни на что не годились. Меня выручил велосипед, в точности такой, как этот. Он стоял перед штабом, я подошел, вырезал из покрышки полосу резины, натянул ее на рукоять сабли, и это меня спасло».
Время от времени полковник давал нам «мастер-классы». Скача галопом, в трех очередных дублях он настигал спасавшегося бегством статиста и саблей сверху рубил его по шлему. Мы потом проверяли: зарубки на металле ложились не дальше, чем на миллиметр друг от друга. Полковника можно увидеть в «Лётне» в роли ксёндза. В одном из эпизодов он демонстрирует фантастический трюк: всадник в галопе удерживает коленом монету между седлом и подседельной подушкой.
Да, этот мир бесповоротно ушел, оставив след разве что в навыках отдельных директоров государственных конезаводов, которые и во времена ПНР продолжали вести себя как офицеры давно не существующих кавалерийских полков. Сохранилась также влюбленность в кавалерийское прошлое у его знатоков, консультантов и советников, придумывающих костюмы и снаряжение для кино.
* * *
С концом кавалерии исчез кавалерист — кавалер, рыцарь, мужчина, сидящий на коне и возвышающийся над остальным двуногим человечеством. Его горизонт был широк, помыслы смелы, фантазия свободна.
Каждый раз, приезжая в Нью-Йорк, я обязательно хожу в музей «Фрик коллекшн» и подолгу стою там перед «Польским всадником», на котором якобы запечатлен конный солдат из отрядов Чарнецкого[9]. Моделью для этого портрета Рембрандту вполне мог послужить наш бравый господин Пасек со своим каурым коньком, так взволнованно описанным в его стихах. Предупредительный смотритель зала каждый раз обращает мое внимание на шестипалую ладонь юноши-всадника. Но меня на этом холсте привлекает другое: гордая, исполненная радости фигура наездника, слившаяся воедино с дикой энергией коня, которого Рембрандт изображает немного сверху, как бы на уровне седла. Это странно, потому что авторы конных портретов, как правило, выбирают ракурс лягушки, благодаря чему у зрителя возникает ощущение, что всадник с конем возносится над горизонтом. А у Рембрандта конь крепко стоит на ногах, изготовившись к стремительному движению.
Кое-кто утверждает, что на самом деле на картине запечатлен выезд блудного сына из ворот отцовского дома. Я тоже склонен в это верить, потому что помню другое произведение Рембрандта, то, что висит в петербургском Эрмитаже. Там изображен финал этой истории: босой и оборванный сын стоит на коленях перед отцом, а конь, сабля, лук, палица, а с ними и горделивая осанка куда-то бесследно исчезли.
Я был свидетелем маршей конных полков, отправлявшихся на зимние и летние учения, видел их парады в национальные праздники. Пришлось мне увидеть и последнее их шествие.
Это было в Радоме после того, как немцы уже захватили всю страну. Однажды октябрьским утром 1939 года моей матери кто-то сказал, что в тот день, около полудня, немцы поведут наших офицеров из казарм 72-го пехотного полка на железнодорожный вокзал, откуда отправят их в офлаги[10].
То шествие и сейчас стоит у меня перед глазами. Во главе колонны шел один из генералов, далее полковники — по восьми в шеренге. Я четко все запомнил, потому что никогда прежде не видел такого великолепия. Первыми шли кавалерийские офицеры в длинных — по самые шпоры — шинелях, старательно и строго по уставу одетые, несмотря на то, что некоторые еще носили повязки после ранений. Они возвращались с войны и не подозревали, что впереди их ждут долгие годы голода и унижений лагерной жизни, пока Отец Небесный не притулит их к своему лону, как это сделал со своим блудным сыном написанный Рембрандтом старец. Шагали гордые польские всадники, с уходом которых наша страна с опозданием вступала в XX век.
* * *
Мы шли рядом с колонной, стараясь быть на виду. Мать надеялась, что кто-то из офицеров заметит ее и сообщит что-нибудь о нашем отце. Тогда она этого не дождалась. Только много-много лет спустя, в декабре 1989 года, из письма непосредственного свидетеля событий пана Ежи Озьминковского я узнал сентябрьскую одиссею своего отца.
18 сентября командир роты капитан Якуб Вайда выдвинулся из Ковеля со своим подразделением в составе оперативной группы полковника Леона Коца. На рассвете 20 сентября они перешли Буг в районе Хородлы, участвовали в нескольких боях с украинцами, а продвигаясь по Любельщине, — с немцами. Под Полихной они отбили атаку моторизованного соединения. Капитан Вайда со своей ротой до вечера сражался на левом фланге. К концу следующего дня польские подразделения столкнулись под Дрволой с колонной советских танков. 1 октября днем танки окружили их в районе Момоты. От поляков потребовали сложить оружие.
Когда полковник Коц зачитал приказ о капитуляции, по словам Ежи Озьминковского, капитан Вайда от отчаяния плакал, как ребенок. «Это был командир, который не столько отдавал приказы, сколько руководил людьми. Прекрасный человек, спокойный, уравновешенный, добрый, полный заботы о солдатах, мягкий и одновременно смелый, настоящий патриот».
Советский командир обвинил полковника Коца в том, что тот со своими людьми сражался против его танков. Полковник возразил: его солдаты защищали польскую землю, после чего последовала реплика: «А теперь эта земля наша». — «Fortuna variabilis, Deus autem mirabilis»[11]. «Последнюю фразу не сумел (а возможно, не захотел) перевести польский сержант, знавший русский язык, — рассказывает в письме очевидец и добавляет: — Тогда я стоял рядом с капитаном Вайдой в последний раз, потом нас разделили по воинским званиям».
«Мы знали, чего от нас хотят»