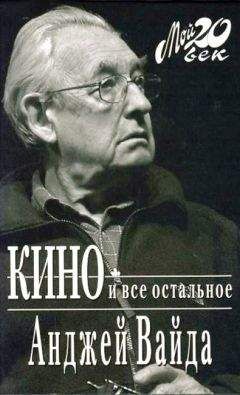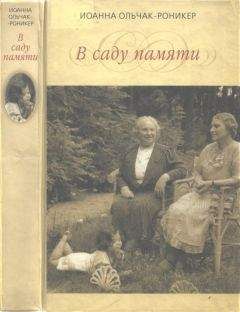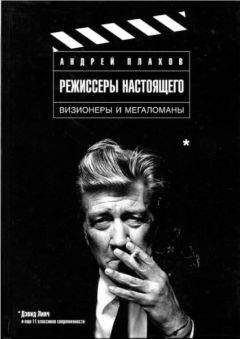Саблю я так и не нашел. Противовоздушную «щель», куда я ее спрятал, завалило землей. Скорее всего она еще и сейчас лежит на дворе офицерского дома по улице Мальчевского, 22, в Радоме. Мы, дети офицеров, чувствовали сильную эмоциональную привязанность к всевозможным семейным реликвиям и сувенирам, но не испытывали никакой эмоциональной связи с местами, где приходилось жить. Всякий раз это был только постой, связанный с очередным назначением отца. Ничто не связывало меня с Сувалками, ни по кому я там не скучал, ничто не связывало меня и с Радомом. Я легко переезжал из Кракова в Лодзь, из Лодзи в Варшаву. Анджей Киевский, сын солидных краковских буржуа, обратил на это внимание. Детям военных это дало существенное преимущество в послевоенные годы: мы легче переживали бездомность, переезды, бродяжничество по сравнению с «домашними» детьми, инстинктивно державшимися родных стен, между прочим, еще и из страха лишиться квартиры в случае утраты родителей.
Во время оккупации главная улица Радома, называвшаяся до войны улицей Жеромского, была переименована в Адольф — Гитлерштрассе. Широкая проезжая часть, по сторонам слитно застроенные каменные дома, а между ними многочисленные подворотни, ведущие в просторные дворы, петляя по которым легко сбить со следа погоню. Я думаю, что именно на это рассчитывал молодой арестант в наручниках. Два гестаповца везли его на допрос. Внезапно он соскочил с машины и бросился бежать. Я и сегодня слышу стук его деревянных бахил по мостовой… Гестаповцы с пистолетами бессмысленно метались по улице. Неожиданно к ним подоспела помощь. По тротуару в противоположном направлении шел солдат вермахта, рюкзак за спиной — если бы не оружие, ну прямо возвращающийся домой отпускник. Завидя погоню, он обернулся, сдернул с плеча винтовку и, как опытный охотник, прицелился в спину беглеца. Заключенный упал, прохожие в переполохе разбежались. Все случилось в мгновение ока, на расстоянии вытянутой руки. Моей руки. Но главное не в этом. Я тогда лицом к лицу увидел перед собой почтенного, может быть, даже порядочного немца, который служил третьему рейху, не размышляя и не травя себя муками совести. Он нисколько не возбудился в связи с происшедшим, почти не обратил внимания на свою жертву, невозмутимо закинул винтовку на плечо и зашагал себе дальше по улице Адольфа Гитлера.
* * *
А вообще: каким было мое детство? Если честно, я мало что из него помню. Я с такой силой его ненавидел, что постарался изгнать из памяти все воспоминания. Хотелось побыстрее стать взрослым. Так оно и произошло. Когда началась война, мне исполнилось 13 лет, и это было началом моей взрослой жизни. Когда стукнуло 15, я вынужден был пойти работать, чтобы избежать вывоза в Германию. Но по детству я никогда не тосковал. Сказать откровенно, я его немного стеснялся. В самом деле, какие у нас были игрушки? От отца мне остались лыжи, еще из Сувалок, две тяжеленные деревянные доски, и велосипед, который я чинил всю войну и на котором не решался выезжать со двора, чтобы не привлечь внимания немцев. К тому же никогда не было гарантии, что, поехав на нем куда-нибудь подальше, не будешь вынужден возвращаться на своих двоих.
Это может показаться странным, но поначалу думалось, что война не отменяет норм и правил, в которых воспитывали нас дома. Враг живет по своим законам, мы обязаны следовать своим. На второй год войны я работал подмастерьем у бондаря в Landwirtschaftszentrale[14] в Радоме. В один прекрасный день нас вызвали в помещение огромного склада, там стояли бочки с топленым маслом, предназначенные для отправки на Восточный фронт. Некоторые бочки пострадали при перевозке, следовало их починить, стянув дополнительными обручами. Мой мастер вмиг оценил ситуацию. А надо сказать, был он феноменальный дурень. Вот, к примеру, образчик его «конструктивного» мышления. Его роскошные предвоенные армейские саперские ботинки страшно ему жали. Он наковырял в них дырок, а напившись, лил горючие слезы и нудно жаловался, что у него в башмаках вечно хлюпает вода. Но с маслом он сообразил все четко. Чтобы починить бочку, надо было сначала ее вскрыть. Затем рассчитать, сколько железных обручей потребуется, чтобы бочку заделать. Вес покореженных обручей давал ответ на вопрос, сколько масла можно изъять, чтобы потом исправленная бочка, тщательно взвешенная нашим подельником кладовщиком, весила ровно столько, сколько первоначально. В результате этой операции гордый собой я явился домой с добычей, которую вручил матери. Ее первая реакция озадачила меня. Мама расплакалась: я украл. Что с того, что в течение всей войны она творила настоящие чудеса, чтобы прокормить двух подростков. Куда годится это объяснение: масло, мол, наше, польское, немцы его у нас украли. Мать горько оплакивала будущее. Это ужасно, что аморальные принципы, которыми руководствуется враг, становятся также, смилуйся, Господи, и нашими принципами.
* * *
Где-то в середине 1942 года в сумерках на пустой главной площади я встретил офицера 72-го пехотного полка Станислава Поренду. Я знал, что ему удалось избежать плена и что он скрывается где-то в окрестностях Радома. Мне уже исполнилось 16, в те времена это был призывной возраст, а потому я не удивился, когда он велел мне явиться в назначенное место, чтобы принести присягу и получить задание в качестве связного при одном из командиров округа. Кажется, это была моя последняя встреча с поручиком Порендой, который позже стал командиром 3-го пехотного полка АК, на этом посту его сменил Антони Хеда (конспиративная кличка Серый).
Слова присяги звучали так: «Перед лицом Всемогущего Бога и Пресвятой Девы Марии, королевы польской короны я кладу руку на святой крест, символ муки и спасения, и присягаю, что буду верно и непреклонно стоять на страже чести Польши, буду всеми силами бороться за освобождение ее из неволи и не пощажу для этого своей жизни. Я буду выполнять все приказы, свято хранить тайну, чего бы это мне ни стоило». После того как новобранец произносил эти слова, командир отвечал следующей формулой: «Принимаю тебя в ряды солдат свободы, долгом твоим будет борьба с оружием в руках за обретение независимой Отчизны, победа станет тебе наградой, измену покарает смерть». Сегодня, когда я читаю эти слова, мурашки бегут у меня по коже от самой только мысли, как это я мог взять на себя такие обязательства и с такими страшными условиями. Счастье, что судьба не подвергла меня испытанию: ведь подобный экзамен, даже если бы я вышел из него живым, мог навсегда сломать психически!
Мне давали нетрудные поручения. В какой-нибудь подворотне в центре города я находил приклеенную маленькую бумажку с условленными пометками, никому, кроме меня, ничего не говорившими. Из них следовало, что мне следует отправиться по трем, самое большее четырем адресам, чтобы взять какие-то документы и передать их по назначению. Я никогда не знал, что содержалось в документах, а адрес мог себе представить только зрительно; я по сей день не знаю, как называлась улица, какой был номер дома или квартиры, по которым я должен был ходить. Забавно, но этот конспиративный навык остался во мне на долгие годы, я и сегодня думаю, что лучше ориентироваться на глаз, а то, чем черт не шутит, схватят, начнут пытать…