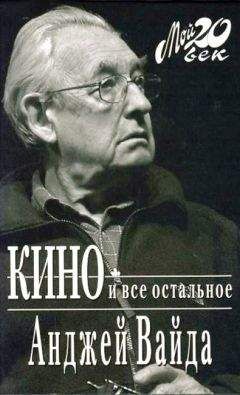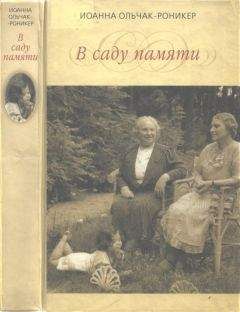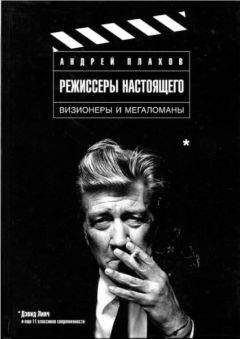О том, что произошло в Катыни, я прочитал в немецкой газете, но полную правду о советской дезинформации на эту тему узнал лишь из изданного в Лондоне тома «Катынское преступление в свете документов» и из книги Станислава Свяневича[16]. Уже после обретения Польшей свободы в 1989 году, поддавшись уговорам новоназначенного советника по культуре нашего посольства в Москве известного кинокритика Рафала Маршалека, я отправился на встречу с советскими зрителями моих старых фильмов. На просмотр пришли старые люди, взволнованные фактом, что кто-то еще о них помнит и приглашает в польское посольство. Когда после куртуазной беседы с послом я шел по длинному коридору, один из работавших там сотрудников пригласил меня в свой кабинет. Этот человек и по сей день остается для меня фигурой анонимной. Не тратя времени на пространное вступление, он рассказал мне, как в действительности выглядела экзекуция в катынском лесу и какова была ее техника.
Уже из первых немецких сообщений вытекало, что польские офицеры погибли от единичных выстрелов в затылок, причем все выстрелы были сделаны под одним и тем же углом. Эта подробность всегда вызывала вопрос, каким образом убийцы могли совершить такое с людьми, до конца боровшимися за свою жизнь. Готовясь к фильму о Катыни, я постоянно недоумевал по этому поводу. Тайна, которую мне открыли в одном из кабинетов польского посольства в Москве, оказалась невероятной в своей дьявольской простоте. Слушая своего собеседника, я ясно увидел, как убивали моего отца, капитана Якуба Вайду, офицера 72-го полка пехоты.
Один из участков Катынского леса был перегорожен забором высотой более двух метров. Забор сбили из досок, плотно подогнанных одна к другой, так что с внешней стороны нельзя было видеть, что делается внутри. Офицеров ставили спиной к забору. Подготовленные к худшему, они высматривали в лесу своих палачей. Тем временем позади них, за забором, в абсолютном молчании стояла расстрельная команда, насчитывающая в точности столько человек, сколько по другую сторону стояло офицеров. Обычно убивали по 20 человек в один прием. Вдоль забора была прилажена длинная лавка. По условленному сигналу вся рота одновременно становилась на лавку, каждый из палачей брал на прицел только одну жертву, и выстрел в голову производился ровно под тем углом, каким впоследствии вычертили его члены комиссии Красного Креста, производившие первую эксгумацию тел в Катыни.
Самым убедительным для меня был тот факт, что я нигде не встречал такого описания и никто не выдвигал подобных предположений. В такой дьявольщине должна была заключаться правда. Я думал, кому можно об этом рассказать, выбор не был трудным, только Густав Херлинг-Грудзинский мог по достоинству оценить полученную мною информацию. Он слушал внимательно, а когда я кончил, на некоторое время задумался, а потом сказал: «Да, это может быть правда, а знаете почему?» — Я молчал. Вопрос застал меня врасплох. — «Потому что это обходилось дешево», — произнес наш славный знаток Советской России.
Я сразу же вспомнил главный аргумент Советов после второго вскрытия захоронений так называемой комиссией Бурденко. Речь шла об использовании немецкой амуниции (оружия и пуль) для расстрела польских офицеров. Известно, что в рамках пакта о дружбе и ненападении между третьим рейхом и СССР после подписания договора Молотовым и Риббентропом в СССР пошли целые эшелоны боеприпасов. Бережливость по отношению к этим боеприпасам имел в виду наш великий писатель Густав Херлинг-Грудзинский, чей «Иной мир» открывает перед нами не только советскую реальность тех лет, но, что важнее, саму суть этой системы.
* * * Пуговицы
Памяти капитана
Эдварда Херберта
Лишь пуговицы уцелели
прошли сквозь смерть явили верность
свидетельством о страшном деле
они выходят на поверхность
жизнь убиенных Бог итожит
и смилуется он над ними
но как их плоть воскреснуть может
коль стала глиной в липкой глине
лишь пуговицы уцелели
загробный хор тех что истлели
лишь пуговицы уцелели
от их мундиров и шинелей[17]
Это стихотворение Збигнева Херберта и по сей день является единственным произведением в польской литературе на тему Катыни, которое волнует мое воображение.
Каким мог бы быть фильм о Катыни? Трагедия польских офицеров не получила ни литературного, ни кинематографического воплощения. Произошло это по нескольким причинам. В течение пятидесяти лет на страже лжи об этом преступлении стояла Народная Польша, но десять лет свободы, казалось бы, — достаточный срок, чтобы снять на эту тему фильм. А ведь в эмиграции и раньше могли бы появиться книги, что ни говори, а рука советской цензуры не простиралась так далеко. Однако…
Причина, как мне кажется, кроется не в самой теме, а в способе ее освещения. Смерть офицеров была предрешена уже в тот момент, когда войска НКВД взяли их в плен после 17 сентября 1939 года. Если существовало решение об уничтожении всех пленных, их поведение в лагере не имело никакого значения. Долгие допросы, изучение документов нужны были больше для того, чтобы занять персонал ведомства, чем для выявления какого бы то ни было разделения на неуступчивых и согласных на сотрудничество. В конце концов всех ждала одна судьба. Таким образом, отсутствует самый важный драматургический момент — участь жертвы. Противная сторона — офицеры и солдаты НКВД — не делает никаких шагов, помимо предписанных им по положению. Они — функция, этим их роль исчерпывается. Может быть, именно поэтому у нас есть только «Трен» Кшиштофа Пендерецкого и стихотворение Херберта, всего два произведения, достойные великой темы.
* * *
Точка зрения Анджея из фильма «Пепел и алмаз» была и моей точкой зрения. То, что говорит Мацек, это голос поколения уже проигравшего войну. «Мы знали, чего от нас хотят», знали, потому что этому знанию нас учила школа, родители, харцерство и костел. Наверное, не во всех слоях общества одинаково последовательно, но в офицерской семье это разумелось само собой. Наши родители, учителя и командиры хотели безоглядного послушания во имя целей и принципов, которые мы хорошо понимали, и это сознание цементировало единство аковской конспирации. Однако вскоре после войны в молодых проснулось глубокое разочарование, наверное, прямо пропорциональное уверенности в себе, которая жила в нас во время войны.