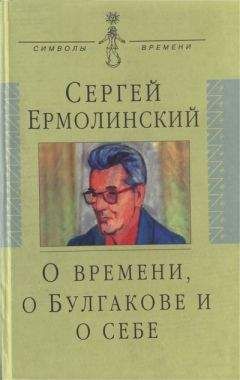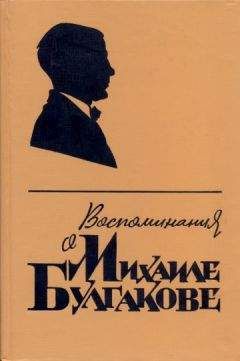Смешным, наверное, выглядел этот первый потрясенный слушатель, забавной была вся эта мизансцена. Но и в старости иногда человек дорожит больше минутой какого-то пережитого чувства, нежели умными, более поздними соображениями. Счастливым человеком был Сергей Александрович Ермолинский! Подумать только! — был у него случай, когда, глядя прямо в глаза автору «Мастера и Маргариты», ни о чем не размышляя и ничего не опасаясь, он мог выкликнуть то, что, может быть, единственно и нужно было автору, но главное, что было верно: это — гениально. Тут Булгаков захохотал и, схватив за руку своего приятеля, стал выплясывать… («Ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!»)
Сколько жизней иногда может прожить один человек? Да еще в России, где социальный уклад переломил однажды всю историю страны, да еще в литературе, где судьбы ломались нещадно?
С. А. Ермолинский любил повторять мысль драматурга Островского, что писателю в России надобно жить долго. Чтобы все успеть. Булгаков долго не жил, но успел написать свой главный роман. Невозможно, однако, узнать автора этого романа в его первых фельетонах — они как будто не им написаны.
Я держу в руках книжку, изданную в 36-м году. Называется она «Как мы работаем над киносценарием». Это сборник статей. Среди таких авторов, как А. Каплер, Н. Зархи, О. Брик, — имя С. Ермолинского. И начинается его статья так:
«Я люблю путешествовать. Во мне пробуждается тогда неудержимый оптимизм.
Трясясь на полуторатонке в предгорьях западного Копетдага, по белым плешинам солончаков, я неожиданно сочиняю и пою песни.
В горном кишлаке Таджикистана тренькаю на дутаре, будто на балалайке, соревнуясь с крохотным дутаристом-таджиком.
В Донбассе я играю в шашки с молчаливейшими людьми на свете — с шахтерами, и даже могу поплясать на вечеринке у местного профсоюзного работника…»
«Я был металлургом, подводником, агрономом, летчиком…» Это написано человеком, которого я не знала. Это отражение какой-то первой части его жизни, мне неизвестной. Здесь все — и веселый перечень занятий, и уверенность в «знании жизни», и ритм, и настроение — из тех 30-х годов, которые мы знаем по кадрам старого бодрого кинематографа.
Однако и выдумки тут нет — Ермолинскому в кинематографе действительно везло, он был признанным сценаристом. Страсть к путешествиям позволила ему объездить всю страну. И дружба с режиссерами была, и радовали успешные премьеры фильмов. Сергей Александрович Ермолинский, по его словам, был «вполне благополучный господин» — сначала журналист, потом сценарист, путешественник и ярый собачник, судья на собачьих выставках и т. д. и т. п.
Когда мы познакомились, он говорил о тех своих занятиях с оттенком иронии, будто и не о себе, а о каком-то отдаленно знакомом человеке.
Между тем однажды, рассказывая о работе в кино, он сделал неожиданное отступление в сторону:
— Пристрастие мое к изучению исторических и историко-литературных материалов не покидало меня никогда. Это было потребностью — пищей для раздумий над судьбой народной и судьбами людей необыкновенных, вобравших в себя судьбу века.
В ссылке он написал пьесу о Грибоедове. А дальше — Пушкин, Денис Давыдов, Блок, Толстой, Островский стали его героями. В тот же ряд встал для него Булгаков.
Мне мучительно больно было читать черновик рукописи второй части этой книги. Больно, потому что Сергея Александровича я хорошо знала и его уже нет на свете. Он не дожил до того времени, когда Сталина открыто назвали палачом и всю придуманную им и его соратниками систему осознали как многолетнюю болезнь, от которой во что бы то ни стало надо избавиться, то есть вылечить и общество, и людей.
Он о многом молчал, а теперь будто решился рассказать — и мне, и другим. На самом деле он решился гораздо раньше — рассказать во всех подробностях про то, как дано ему было узнать «изнанку нашего существования», какова она, эта изнанка. Во второй части своих записок он пишет только об атом, — напрягая память, но восстанавливая в деталях все то, что хочется забыть, как кошмар. Он не забыл. Но если говорил, то очень коротко. «Друг мой, я видел все это в натуральную величину», — ответил он писателю Даниилу Данину, который хотел поделиться с ним какими-то новыми сведениями о людях, прошедших тюрьму.
В тюрьме у него поначалу отбили всякую способность что-либо понимать. Трудно представить себе, в каких условиях человек обретал эту способность, какими усилиями добывал ту «пищу для размышлений», без которой не мог жить. Но вот, больной, измученный, заброшенный в глухие края Казахстана, он, оглядевшись вокруг, уже бежит в библиотеку, роется в справочниках, потому что уже работает голова и он заинтересовался историей завоевания Россией Средней Азии и судьбой Чокана Валиханова…
Днем копал промерзшие чужие огороды, чтобы получить две тарелки борща, но при этом достал-таки ученическую тетрадь и соорудил коптилку. Зачем? Чтобы не быть рабом. «Я мог работать ночами!» — это написано ликующе. И потому при первом же случае на Алма-атинскую киностудию была отправлена заявка сценария о Чокане Валиханове. Ее написал человек без вольного паспорта (такого документа не было до 66-го года), совсем не похожий на «благополучного господина», которым был когда-то.
Имеет ли все это отношение к Булгакову? Да, и самое прямое для судьбы Ермолинского. «Руки мои скручены, но голова свободна: не засорять ее пустыми страхами. И я думал о Булгакове, когда он, зная, что умирает, поправлял строчки и отдельные слова в своем последнем романе. А я не умираю. Я не имею права умирать. Лишь один раз смалодушничал — в Лефортове. Но ведь я был невменяем, бессонница довела. Нет, теперь не то!»
О том, как он подобрал на тюремном дворе острый осколок стекла и взрезал себе вены на руке, когда-то, приглушив голос, рассказывала мне Татьяна Александровна, его жена. Сам он об этом никому не говорил. Теперь, я вижу, написал — как о минуте недопустимой слабости.
На первых допросах все было непонятно. Речь шла о «связях с иностранцами», о шпионаже в пользу японской разведки. Все это казалось бредом. Но вот было произнесено имя Булгакова. В доме, который для Сергея Александровича был родным, оказывается, «заваривалась вонючая контрреволюционная каша», и он, Ермолинский, должен подробно рассказать об участниках этих сборищ. «И вдруг все ясно стало в моей голове. Я понял, чего от меня добиваются. И понял, и смог думать, и, вернувшись в камеру, мог задать себе вопросы, чтобы уже знать, как вести себя дальше. Почему нужно, чтобы я очернил память Миши?.. Но ведь это кому-то надо? А может быть… трусливое желание оболгать загубленную жизнь писателя, если не удастся забыть ее?». Он не предполагал, что еще столкнется с таким желанием совсем в другое время. Не думали об этом и следователи — «маленькие садисты», как он их называет.