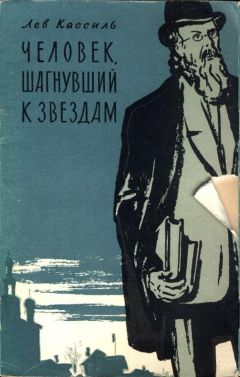Впрочем, если уточнить этапы роста, надо сказать о следующем происшествии. Незадолго до окончания школы второй ступени я угодил в страшную бурю на Волге. Неистовой силы ураган, вызванный внезапно обрушившимся на наш город циклоном, валил заборы, срывал крыши, выбрасывал баржи на берег, опрокидывал пустые товарные вагоны с железнодорожного полотна. На разбушевавшейся Волге перевернулась лодка-дощаник, на которой перевозили коз. Лодочники выбрались на плот, а козы начали захлёбываться. Мы с приятелем попробовали на моторной лодке спасти их. Коз мы не спасли, а меня с моим дружком спасали уже работники пристани. Промокли мы до костей, но тут же были высушены ветром. В результате я поймал жестокую, жёлтую, тропическую малярию, эпидемию которой занесли войска, вернувшиеся тогда из Средней Азии после подавления басмачей.
Девять горячечных недель я плавал где-то между жизнью и смертью. Я был исколот шприцами, как святой Себастьян — стрелами. И когда наконец я смог опустить на пол с постели свои чудовищно отощавшие, голенастые, как у саранчука, ноги, я был потрясён: конечности мои ушли от меня куда-то далеко вниз, а потолок стал непривычно близок к моей макушке!
Меня всегда чрезвычайно занимал этот феномен — стремительный рост ребят за время болезни… Впоследствии я даже попытался разработать на сей счёт некую гипотезу, вложив её в уста одного из героев повести «Дорогие мои мальчишки», историка и философа Валерки Черепашкина:
«По-моему, это потому так бывает, что, когда человек ходит, он может расти только в одну сторону — вверх, снизу ему пол мешает, а когда долго лежишь, то можно расти в обе стороны — и макушкой и пятками».
Не берусь здесь доказать правоту этой идеи, но, во всяком случае, когда я первый раз после болезни, страшно вытянувшийся и тонкий, как макаронина, выполз на улицу, те же самые приятели мои, которые обычно дразнили меня «карапузом» или «коротышкой», стали сбегаться ко мне, скрывая за насмешкой удивление и крича: «Дяденька! Достань воробышка!» А более остроумные подходили и, глядя на меня снизу вверх, осведомлялись: «Ну, как там, наверху, не холодно?»
С тех пор я уже, мне помнится, не рос, но и не укорачивался, как меня ни изводили дразнилками.
Однако, кроме постоянно преследовавших меня с этого времени насмешек над моей длиной и худобой, жизнь отягчали ещё следующие обстоятельства. Я принадлежал к числу тех несчастных мальчиков, которых, попеременно сбивая с толку, окружающие называют «разносторонне одарёнными». Раздираемый обнаруживающимися во мне, по мнению знакомых, способностями, я долго не знал, чем же мне следует заняться всерьёз. Художники находили у меня определённые склонности по их части, и я послушно учился рисованию и малевал, а когда был в последнем классе школы, то даже занимался параллельно в Саратовском художественно-практическом институте. Музыканты же утверждали, что у меня отличный слух и мягкое «туше», и я много лет терзал рояль и корябал слух окружающим, если верить, что таковой у них был. А тут ещё приехавший из голодного Петрограда учитель словесности А. Д. Суздалев, образованный и опытный педагог-энтузиаст, прочтя написанные мною по его заданию домашние сочинения, заявил напрямик моим родителям, что, чему бы меня ни учили, всё равно я, увы, в будущем стану литератором… Суздалев приучил меня читать серьёзные книги о книгах. Я с ним читал Веселовского и Котляревского, пристрастился к Белинскому, Добролюбову, Писареву. Мне было трудно поверить Суздалеву, что моё призвание — литература, но слова его я запомнил, а серьёзного чтения уже оставить не мог. Впрочем, не стоит сваливать всю вину за то, что я впоследствии сделался литератором, на одного Суздалева… Боюсь, что это случилось бы рано или поздно и без предсказаний моего доброго, просвещённого и дальновидного учителя. А вот за то, что он, как человек учёный и серьёзный, привил мне неприязнь ко всякого рода дилетантству, — за это спасибо ему!
В 1923 году, окончив школу, я за хорошую общественную работу в библиотеке-читальне получил от обкома партии командировку в высшее учебное заведение по существовавшей тогда развёрстке. Я ехал в Москву, чувствуя, что уже далеко за плечами осталось детство, кончилось отрочество, начинается юность. Прощальные дразнилки провожавших меня друзей уже не задевали моего самолюбия.
Но не успел я сойти с поезда на московскую землю и выйти на площадь Павелецкого вокзала, как какой-то московский школьник, отбежав на всякий случай подальше, крикнул мне: «Длинный! Где проезд Неглинный?..» Это было первое, что я услышал в столице. Я утешил себя тем, что услышанная мною дразнилка — вопрос о какой-то московской улице — должна быть воспринята не иначе, как некое посвящение меня в москвичи.
Сдав вступительные экзамены, я начал учиться на математическом отделении физико-математического факультета Московского государственного университета, избрав по специальности аэродинамический цикл. Скажу сразу, что, несмотря на это мудрое обозначение, настоящий математик из меня не вышел…
Уже к третьему курсу меня неотвратимо потянуло писать. Желанию этому противостоять я не мог.
Писать я учился в письмах домой. Я описывал в них Москву, которую в свободные от занятий часы исходил пешком вдоль и поперёк, от центра до пригородов. Я описывал новостройки и шествия, театры и стадионы, магазины и Зоопарк, выставки и музеи. Некоторые письма доходили до 28 страниц.
Потом выяснилось, что младший мой братишка Ося[2] и его приятели берут у матери эти письма, перепечатывают их на машинке и помещают отрывки в местной газете, под заголовком: «Письма из Москвы». За это им в редакции что-то платят, они не отказываются, берут гонорар, ходят в кино и едят пирожные за моё здоровье. Тут я стал подумывать, что и сам бы мог позаботиться о своём здоровье, не препоручая это моим волжским друзьям.
…Но настоящее решение пришло иначе.
Я навсегда запомнил этот неистово морозный день с низко нависшим тяжёлым небом, к которому поднимались дымные столбы от костров, зажжённых на московских перекрестках. Я был в траурной очереди у Колонного зала и дважды прошёл мимо гроба Ильича. На всю жизнь запомнил я этот скорбный день, заиндевевшие лица тысяч людей, дымное дыхание молчаливой толпы и потом надрывный плач заводских гудков над городом. Я так замёрз, что, когда стоял у Колонного в третий раз, упал, и красноармейцы отогрели меня у костра. Но когда я пришёл домой и окоченевшие мои пальцы настолько оттаяли, что могли держать ручку, я сел писать. Я писал всю ночь. Я писал для самого себя. Мне надо было найти слова, чтобы выразить всё то, что увидел я в этот день, заглянув в бездонную пропасть народного горя…