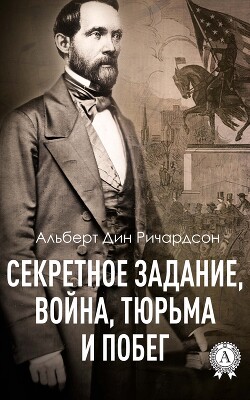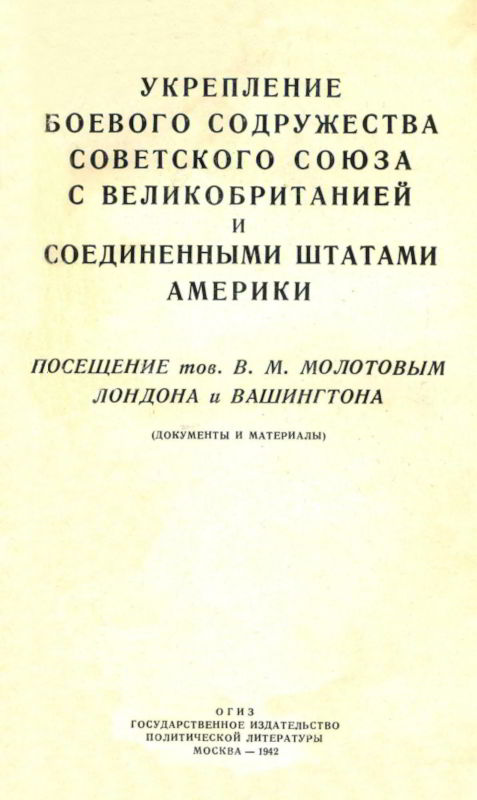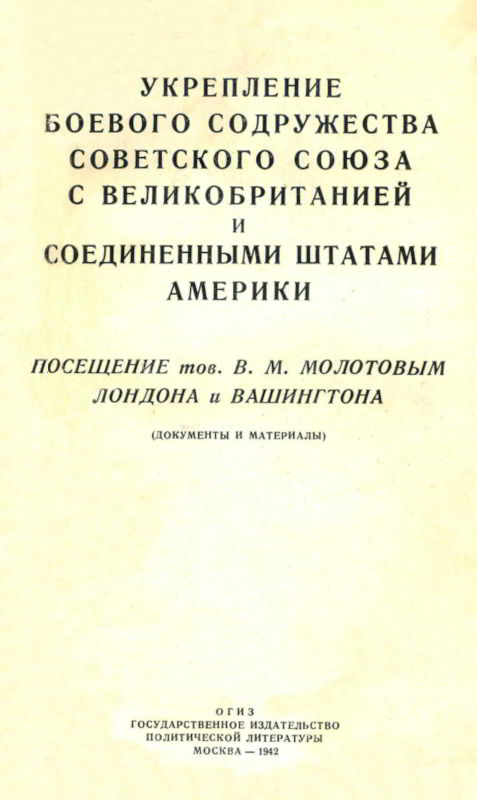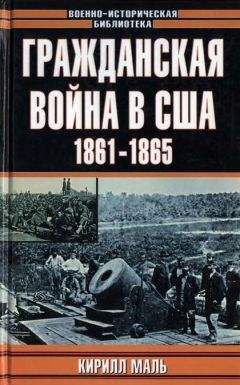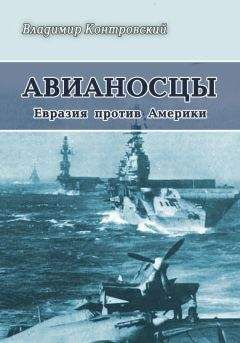Более того, я прошел через Канзасскую войну, и теперь многие из тех «приграничных головорезов», теперь уже в значительно лучшей форме, зажгли свои яркие факелы от костров ранней Сецессии. Я не хотел встречаться с ними, потому что я не мог вспомнить ни одного человека из них, кто мог бы симпатизировать мне. Но мой инстинкт истинного газетчика победил рассудительного журналиста, и таким образом, все закончилось тем, что я вошел в состав выездной группы, представляющей собой «The Tribune» [3] на юго-западе.
Спустя несколько дней я вошел в кабинет исполнительного редактора — он просматривал огромную кучу писем, которые принесла ему утренняя почта, — с той удивительной быстротой, которая может быть выработана только исключительной сообразительностью, многолетней практикой и естественной склонностью к этой очень деликатной и трудоемкой работе. Современная газета — это своего рода интеллектуальный броненосец, на котором в то время, когда Капитан — Главный Редактор — публикует отчеты своему начальнику — Публике, развлекает гостей в своей элегантной каюте — Ведущей Колонке, получает похвалы за каждый «бортовой залп» в виде Печатных Букв-И-Знаков, и за каждую выпущенную во врага пулю — Удачную Статью, есть скрытый от всех и не видимый никем его Помощник — Исполнительный Редактор — значительно менее популярный, но который держит корабль в полном порядке от трюма до кончиков мачт, день и ночь напролет следит за каждой мелочью, и жизнь которого — ежедневно чудесные результаты тяжелой работы.
Редактор, я думаю, просматривал почту, тратя на одно письмо не более минуты. Он принимал окончательное решение по каждому прочитанному им письму, действуя в соответствии с великой истиной, что, если он отложит его рассмотрение на потом, то вскоре на его скрипучем столе образуется такой многослойный покров, который ни один, даже самый умный геолог не сможет ни разобрать, ни рассортировать. Одни письма безжалостно летели в корзину. Другие, с молниеносно нанесенной карандашной отметкой, указывающей тип и стиль печати, складывались в стопку в наборном цехе. Несколько больших пакетов с рукописями были снова упакованы в конверты для пересылки по почте с трехстрочной надписью, которая — хотя я и не читал ее, — я знал, что она гласила нечто вроде этого:
«Мой дорогой сэр…, ваша статья имеет ряд неоспоримых достоинств, но атакуемые непрерывным потоком очень важных новостей, мы с большой неохотой вынуждены», etc.
Здесь быстро действовало хорошо развитое природное чутье, которое позволяло понять смысл целого по очень небольшой его части, по одной строке и ключевому слову. Казалось лишь два или три беглых взгляда определяли судьбу каждого письма, но читающий не был полностью поглощен своим занятием, поскольку в то же время он продолжал вести разговор:
— Я получил ваше письмо. Вы собираетесь в Новый Орлеан?
— Нет, если вы не пошлете меня туда.
— Я полагаю, вы осознаете, что это довольно опасное дело?
— О, да.
— На этой неделе домой вернулись двое наших корреспондентов — им едва удалось спастись. На Юге осталось еще шестеро, и меня бы не удивило, если бы именно сейчас я получил телеграмму, сообщавшую либо о тюремном заключении, либо о смерти любого из них.
— Я много думал об этом и принял решение.
— В таком случае мы будем очень рады, если вы поедете.
— Когда я могу выехать?
— Хоть сегодня, если хотите.
— Насколько большую область я должен объехать?
— Сколько сочтете нужным. Отправляйтесь туда, где, как вы считаете, будет лучше всего.
— Как долго мне стоит оставаться там?
— До самого конца волнений, если получится. Как вы сможете это предугадать? Однажды, в одно прекрасное утро вы вернетесь обратно ну, скажем, недели через две.
— Поживем-увидим.
Размышляя о наиболее подходящей для этого путешествия линии поведения, я вспомнил совет бессмертного Пиквика: «В таких случаях надо делать то, что делает толпа». «Но, по-видимому, здесь две толпы», — заметил мистер Снодграсс. «Кричите с тою, которая больше», — ответил мистер Пиквик. Фолианты — и те не могли бы прибавить к этому. По этому плану я и решил действовать — скрывая свою профессию, политические взгляды и место жительства. Невероятно трудно закрыть под замок свой собственный язык на несколько недель и притворяться не тем, кем ты являешься на самом деле, но ради собственного комфорта и безопасности это пришлось сделать.
Во вторник, 26-го февраля, я покинул Луисвилл, штат Кентукки и поездом отправился в Нэшвилл. Единственной и главной темой разговоров между пассажирами были общественные дела. Все ехавшие в поезде примерно одинаково разделились на восторженных сецессионистов, убеждающих всех я в пользу нового движения, благодаря которому негры стали стоить намного больше, чем когда-либо прежде, и квази-лоялистов, непрерывно повторяющих: «Мы хотим лишь, чтобы Кентукки оставался в Союзе как можно дольше». Но ни один человек не заявил о себе открыто как сторонник Правительства.
Пять часов мы ехали среди синих, очаровательных, покрытых лесом холмов, лишившихся своей листвы лесов и бревенчатых жилищ, у входов в которые женщины и маленькие девочки самодовольно курили свои трубки, прекрасных, гостеприимных и окруженных естественными парками ферм, табачных плантаций, на которых негры обоих полов — женщины в грубых ботинках из бычьей кожи и выцветших платьях и невзрачных, обернутых словно тюрбаны вокруг их голов платочков — мотыжили землю — а затем мы прибыли в Кэйв-Сити.
Я покинул поезд, чтобы до отеля «Mammoth Cave» миль десять проехаться верхом. Расположенный в самом центре ухоженной полянки, затененной величественными дубами и стройными соснами, он вырисовывается огромным и белым, длинным и невысоким одноэтажным строением, с глубоким портиком, и известным под названием «Коттеджи».

Несколько вечерних часов были приятно проведены в Белой пещере, в которой наросты на стенах, на первый взгляд тусклые и свинцового цвета, после привыкания к неяркому свету факелов становятся безупречно белыми. Здесь есть небольшие озера, настолько прозрачные, что воды совершенно не видно. Каменные портьеры, сложенные в изящные складки, создают ощущение присутствия в элегантно отделанной гостиной, каменные чаши, куда вода все еще стекает и застывает. Потолок, покрытый множеством ячеек, подобно пчелиным сотам — идеальное произведение искусства, — бесконечные ряды сталактитов — все совершенно одинаковые — ребристые и покрытые насечкой — простираются ласкающей глаз колоннадой, а также множество других нигде не встречающихся произведений ручной работы Природы в зависимости от ее постоянно изменчивого настроения. Многие из них огромны, несмотря на то, что для образования одного тончайшего слоя требуется целых тридцать лет! Хорошо сказано в немецкой пословице: «Бог терпелив, потому что он вечен».
На следующий день в обществе еще одного посетителя я отправился в Мамонтову пещеру. Мэтт, наш немногословный чичероне [4], прослужил гидом уже 25 лет, и за это время, как было подсчитано, прошел под землей более 1 500 миль. Это звучит не столь фантастично, если учесть, что все проходы великой пещеры в совокупности составляют более 150-ти миль и что в ней 226 уже открытых залов. Наша экипировка состояла из двух ламп для проводника и по одной у каждого из нас. В нескольких местах пещеры хранятся несколько бочек с маслом, поскольку крайне важно, чтобы лампы посетителей этого лабиринта тьмы должны быть всегда заправлены и постоянно светить.
Термометр внутри постоянно показывает 59° [5] по Фаренгейту, и пещера «дышит только один раз в год». Зимой это длительный вдох, а летом воздух постоянно течет наружу. Ее огромные залы — это легкие Вселенной.