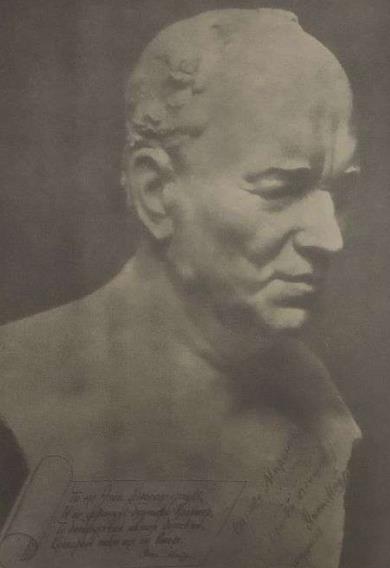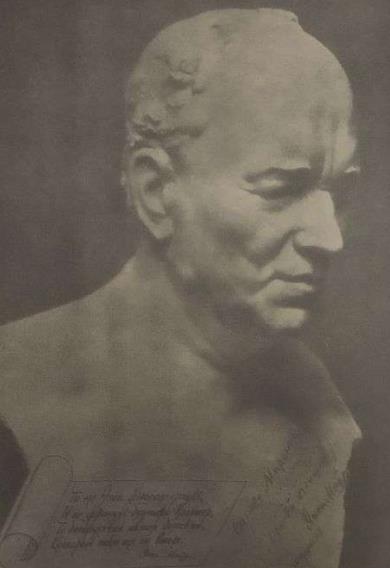школу, мы особенно побаивались: после окончания своей четырехлетки будем учиться у них. Начни лодырничать, отлынивать, наверняка запомнят…
Одним словом, к концу субботника, продолжавшегося изо дня в день в течение трех с небольшим недель, навсегда исчезло и наше болото, и оказавшийся совсем не бездонным пруд. Вместо них — ровное, без единого холмика, утрамбованное вручную песчаное поле, на котором вскоре вырос спортивный стадион «Локомотив».
Но не странно ли, что память об этом субботнике не потускнела до сих пор?
Пожалуй, нет.
От отца, работавшего старшим кассиром на товарной станции, я не раз слышал рассказы о том, как умеют железнодорожники постоять друг за друга и за общее дело, об их стойком и гордом неповиновении любому нажиму, о несокрушимой верности пролетарской революции. Жили мы с отцом на «мужской» половине нашей квартиры, в узкой продолговатой комнате, где его и моя кровати спинками впритык одна к другой стояли вдоль стены. В будний день проснусь, его уже нет: чуть свет уходил на работу. А воскресные утра — мои: заберусь под бочок, прижмусь и жду, когда заговорит.
Он умел и любил вспоминать и рассказывать. О том, что мне, семи-восьмилетнему, казалось тогда очень давнишним. О Михаиле Васильевиче Фрунзе, который еще до Октябрьской революции создал в Минске народную милицию, состоявшую в основном из рабочих-железнодорожников, заставивших городских полицейских и жандармов сложить оружие. О революционном бронепоезде, вскоре после исторического выстрела «Авроры» прорвавшемся в занятый белыми и меньшевиками Минск и вынудившем капитулировать незадачливых «временщиков» Керенского.
И еще рассказывал… Тогда я, на год-два повзрослев, многое видел собственными глазами, а понимать умел не все. Почему, например, для немецких оккупантов-кайзеровцев все наши люди «русише швайн»? Почему нагрянувшие вскоре после немцев польские жолнежи пана Пилсудского высокомерно обзывали нас «хлопами» и «пся кревью»?..
—- Фанаберистые господа, ничего не скажешь,— в ответ на мои «почему» посмеивался отец.— А копни поглубже, и под этим высокомерием дрожь до костей перед нашими людьми. Потому, сынок, и лютуют, что боятся нас.
Лютовали. Особенно днем, когда по двое, по трое, а то и больше разгуливали по минским улицам. Посмей кто-нибудь из «хлопов» не уступить дорогу — остановят, измордуют. Не забуду, как однажды отец пришел домой с кровоподтеками на лице, в пальто без пуговиц и с оторванным рукавом, с наполовину обрезанной тупым легионерским тесаком серебристо-черной от преждевременной седины бородкой. Тоже всласть поиздевались ясновельможные…
А ночною порой ни на улицах, ни тем более на пристанционных железнодорожных путях — ни чужой души. На обоих пассажирских вокзалах полным-полно солдат и офицерья: одни приезжают, другие дожидаются отправки своих поездов. Но посмей кто-нибудь из них шагнуть из вокзального освещения в сторону, в темень, и, считай, чужеродной «души» недочет…
Однако обо всем этом ни мой отец, ни соседи-железнодорожники предпочитали вслух не говорить.
Впрочем, многое мы, мальчишки, видели сами. И сами, без наставлений взрослых, учились понимать.
Помню солнечный ясный день, когда вся наша мальчишня высыпала из дворов на Московскую, привлеченная громкой музыкой ни разу не слышанного прежде военного марша. Марш гремел слева, возле каменного виадука, звуки его постепенно приближались к нашему дому. Жарко сверкали медные трубы, грохотали барабаны оркестра, за которым через весь виадук, до Койдановского тракта, растянулась воинская колонна. Возле дома оркестр умолк, и вместо него грянула многоголосая песня:
Зе пшекяадем охотника
выпендземы большевика,—
большевика гонь,
эть, два, тши!
Перевода не требовалось, мы достаточно хорошо знали польский язык. «Прикладом добровольца вышвырнем большевика,— большевика гони, раз, два, три!» — вот что пели легионеры в четырехугольных, сдвинутых набекрень фуражках-конфедератках, победоносно топая по булыжной мостовой. Мундиры расшиты серебряными галунами, за спиною — винтовки, впереди колонны, на белой тонконогой лошади, небрежно помахивает стеком самый главный из всех этих ясновельможных...
Найдется ли сила, способная хотя бы остановить их?
Нашлась!
Не забыть, как стремительно-лихо удирали эти самые, в конфедератках, на бегу бросая и чемоданы с награбленным у минчан добром, и свои расшитые мундиры. А за ними, буквально наступая на пятки, ворвалась в Минск пропыленная, полураздетая, полуголодная, вражью нечисть сметающая со своего пути красная конница:
— Даешь Варшаву!
Все, что успели, разрушили, уничтожили и сожгли пилсудчики перед своим паническим бегством из Минска. Оба пассажирских вокзала, паровозное и вагонное депо, почти все станционные постройки. Подгоняемые мальчишеским любопытством, мы шныряли по путям пассажирской и товарной станций, не без страха подбираясь поближе ко все еще пышущим жаром остовам полусгоревших пакгаузов и складов. То, что было в них, превратилось в обуглившиеся груды, в пепел и прах. И лесные материалы, и продукты, и зерно. И даже сожженные заживо коровы и свиньи, пригнанные из окрестных деревень.
Но едва в отдалении, в стороне теперешнего Дзержинска, утихли залпы продолжавших погоню красноармейцев, как на узле тотчас вступил в действие незыблемый, в полном смысле чудодейственный, хотя и никем не писанный закон рабочего братства.
День за днем, отработав положенную смену, шли железнодорожники еще на два часа ремонтировать паровозы и вагоны, восстанавливать подъездные пути и семафоры.
Жены, матери, дочери, тоже по два часа в день, выбирали из руин уцелевшие кирпичи, вывозили на тачках горы мусора, щебня и битого кирпича из безглазых, бескрыших остовов зданий.
Мы, мальчишки, с утра спешили к уцелевшим водоразборным кранам, чтобы там, выстроившись в длинную цепочку, мз рук в руки передавать наполненные водой ведра к тендерам паровозов.
Во всем Минске так было: и у нас на узле, и на всех фабриках, и на всех заводах.
Удивительно ли, что теперь, всего лишь несколько лет спустя, и с нашим болотом было покончено так же дружно и быстро!
А виновником «бевзременной гибели» болота, и притом самым главным виновником, был не кто иной, как главный врач железнодорожной больницы, веселый и пышноволосый доктор Хундадзе. Это он день за днем повторял своим многочисленным пациентам!
— Комары одолевают? Под боком болото! Откуда малярия? От него и идет! Почему часто болеют дети? Как же им не болеть, если вечно по самые уши в болотной грязи! — И настаивал, убеждал, требовал: — Пор-ра кончать с зар-разой!
Так возникла эта идея. Доктора Хундадзе знал весь наш район. Железнодорожники, стекловары, металлисты, пожарные, кустари-сапожники и жестянщики — любой мог обратиться к нему со своим недугом. И никто никогда не слышал отказа в помощи, в тщательнейшем осмотре, в квалифицированном медицинском совете. Днем ли, ночью ли, в летний зной или в осеннюю непогодь, широко шагая и помахивая увесистой суковатой тростью, доктор спешил на вызов. Но не дай бог обидеть его: багровел от