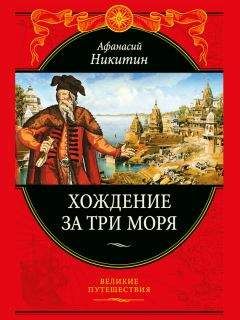— И ложку сметаны.
— Верно. Отец очень любил со сметаной. Ну, а мне здесь больше всего понравились «политические калачи».
— «Политические»?! Никогда не слыхала. И даже странно: калачи с политикой!
— Есть такие! Федоровна печет.
— Это кто же? — спросила Надя. — Ты не писал о ней.
— Разве не писал? Значит, запамятовал. А был уверен, что ты, Надюша, знаешь по моим письмам. Это жена одного крестьянина, с которым я хожу на охоту.
— Сосипатыча? О нем Наденька читала мне в твоих письмах.
— Да. Елена Федоровна Ермолаева. А зовут ее все просто Федоровной. И еще — Сосипатихой. Я познакомлю вас. И она напечет…
— Этих странных калачей?! Но почему же все-таки «политические»? Наверно, твердые, как камень?
— Наоборот, мягкие. Только корочка похрустывает на зубах. Из запекшейся сметаны. А названье произошло просто: нам с Оскаром Энгбергом, по местной терминологии «политикам», калачи пришлись по вкусу, ну и прилепилось слово.
— Корочка из запекшейся сметаны? Так сегодня же Варламовна угощала. Она называла шаньгами.
— То совсем другое. Вроде булочек. А у Федоровны именно калачи, только особенные. И она любит стряпать их. Достаточно мне заикнуться, что завтра пойдем на охоту, как она сразу начинает замешивать квашню. А Сосипатыч подзадоривает: «Пеки побольше «политических» калачей!»
Наде было приятно, что у Володи есть среди сибирских крестьян добрые знакомые, и ей самой хотелось поскорее повидать их. Кто знает, если бы не этот Сосипатыч… Не выбрался бы Володя из озера в тот страшный день…
А он продолжал:
— Я думаю, Сосипатыч сегодня же придет к нам. Непременно придет, и вот увидите, не с пустыми руками. Такой уж у него характер.
Наклонившись, нашел два голых пустотелых стебелька, один подал Елизавете Васильевне, другой — Наде.
— Попробуйте луговой лук. Чибисовый. Вон птица кружится. Вон-вон. Видите? А вон другая бежит по земле. На затылке хохолок. Это и есть чибис. Прислушайтесь: посвистывает и спрашивает: «Чьи вы? Чьи вы?»
Махая короткими полукруглыми крыльями, чибис подлетел поближе и повторил свой беспокойный вопрос. И Наде захотелось ответить. «Мы с Володей — Ульяновы». Но она проводила птицу задумчивым взглядом. Потом откусила верхушку сочного стебелька — язык обожгла незнакомая легкая горчинка, смягченная весенней свежестью.
Мать спросила:
— Небось тот же Сосипатыч дал названье луку?
— Я слышал от него. — Владимир сорвал еще несколько стебельков и подал Елизавете Васильевне. — Может, для супа пригодится? Мы на охоте клали в котел.
— А я не могу отыскать. — Надя присматривалась то к одному, то к другому кустику пи-кульки. — Вся трава одинаковая. Будто прячется от меня твой лук.
Владимир сделал шаг в сторону: наклоняясь, протянул руку к земле. Теперь и Надя увидела светло-зеленые стебельки, метнулась к ним и, рассмеявшись от радости, успела сорвать раньше него.
Забыв, что они не одни, Владимир расхохотался и схватил ее за локти.
Елизавета Васильевна отвернулась и стала разминать папиросу. Закурив, струю дыма выпустила в землю.
Вспомнив о матери, Надя смущенно высвободила руки и, подавая Владимиру чибисовый лук, сказала:
— Постепенно и я начну разбираться в здешних травах. С твоей помощью.
— Я вижу, вы многому… Уже многому ты, Володя, научился тут от крестьян, — отметила Елизавета Васильевна, подходя к ним. — Дружбу успел завести…
— Не со всеми. Крестьяне разные. Среди них есть и недруги. Даже сродни помещикам.
— Уж это-то я по себе знаю. До замужества служила гувернанткой в имениях. Насмотрелась, какое зверье эти помещики! А после мы с Наденькой в деревнях живали. И видали чумазых богатеев.
— А бедным как-то помогали сено убирать, — добавила Надя.
— Ого! Да вы, я вижу, из прежних народников!
— Не сторонились смелых людей.
Вышли к реке, постояли над обрывом.
В отличие от дремотной Шушенки, Енисей выглядел неугомонным. Он беспокойно ворочался на перекате, игриво раскачивал поникшие ветки прибрежного тальника, осыпал берега радужными брызгами, а на отмелях пересчитывал разноцветные камушки, будто обточенные искусным гранильщиком. И с береговыми обрывами, и со стаями пестрых турухтанов, спешивших куда-то на север, и с самим небом вел свой бесконечный разговор. А вода в нем — горный хрусталь. Вьются, вьются струи возле ног, обдают прохладой, будто спешат порадовать, поделиться силой и своей вечной устремленностью в неведомые дали.
Елизавета Васильевна зачерпнула воду ладошкой, и с нее посыпались капли — крупные жемчужины.
— Холодна, чиста! Вероятно, про такую и сказки сложены: живая вода!
Едва успели вернуться домой, как пришел охотник, невысокий, в дырявой войлочной шляпе, похожей на опрокинутый горшок. Его широкое лицо заросло клочковатой бородой, как бы обдерганной с обеих сторон. Под взъерошенными бровями светились добрые глаза, не устававшие радоваться всему, что окружало его.
Надежда увидела крестьянина в окно и поняла — это Сосипатыч!
Из-за его правого плеча торчал толстый ствол старого дробовика, бурого от застарелой ржавчины, а через левое была перекинута большая серая птица, тонкие ноги которой, словно железные прутья, волочились, царапая землю черными коготками. Охотник держал свою добычу за конец одного крыла, и длинные жесткие перья топорщились за спиной огромным веером.
Владимир Ильич встретил гостя на крыльце:
— Входи, входи, Иван Сосипатрович! Рады видеть.
— Дождался, ядрена-зелена?! — Охотник, разулыбавшись, по-дружески ткнул рукой в бок. — Будем проздравлять. С женушкой, стало быть, вскорости!
Он обтер о ступеньки крыльца подошвы кожаных бродней с мягкими голенищами, подвязанными ремешками чуть ниже колен, и прошел в горницу; сняв левой рукой шляпу с давно не чесанной головы, поклонился сначала хозяйским иконам, висевшим в переднем углу, потом приезжим женщинам:
— Вот примите. И не обессудьте на таком подарке. Вам поди-ка на обед сгодится.
По одну сторону его протянутых рук свешивались до самого пола костистые ноги, по другую — тонкая шея с маленькой, увенчанной изящной косичкой, длинноклювой головой.
— Он, журавлишко-то, того… Ничего он… Утречком я зашиб. Не успел, язва, лягушек-то наглотаться — не испоганился.
— Зачем вы это? Зачем нам? — пробовала отказаться Елизавета Васильевна. — Мы тут — на хозяйских хлебах пока что… А у вас, я слышала, своя семья…
— Вот ядрена-зелена! — обиженно ругнулся охотник. — Для чего же я старался? Он, шельма, дюже зоркой. Стоит на одной ноге, как на высокой ходулине, и туда-сюда башкой вертит. Этот — ажно посередь болота. Я ползком да ползком к нему, промеж высоких кочек. Боялся — вот-вот вспугну его, холеру. Да пофартило: туманчик низехонько так расстелился и меня принакрыл.
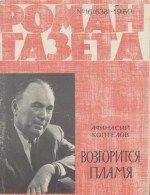

![Афанасий Коптелов - Дни и годы[Из книги воспоминаний]](https://cdn.my-library.info/books/47157/47157.jpg)