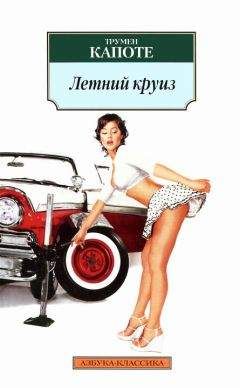С главным было покончено, и тут из задних рядов раздался голос:
— Здесь всякие бредни ходят. Говорят, за нами будут “хвосты”.
— “Хвосты”? — улыбнулся мистер Уолмсли. — Не исключено. Но это не то, что вы думаете. Если за вами и будут следить, то для вашей же безопасности. Поймите, там на вас будут глазеть толпы. Это не по Берлину гулять. Так что к вам наверняка кого-нибудь приставят. Безусловно.
— Факт тот, — вставил г-н Лаури, — что Министерство культуры очень хотело, чтобы вы приехали, поэтому с вами будут обращаться наилучшим образом, без придирок, не как с другими иностранцами.
Голос из задних рядов настаивал, не без разочарования:
— Мы слышали, что за нами будут следить. И вскрывать письма.
— А-а, — сказал Уолмсли, — это дело другое. Это само собой. Я, например, всегда исхожу из того, что мои письма вскрывают.
Слушатели зашевелились, обводя собравшихся глазами с видом “я же говорил!”. Тут поднялась секретарша Роберта Брина, Нэнси Райан. Мисс Райан (Радклифф-колледж, выпуск 1952 года) поступила в труппу три месяца назад, по причине интереса к театру. Она из Нью-Йорка, синеглазая блондинка, высокая, под шесть футов ростом, и очень похожая на мать, без конца фотографируемую светскую красавицу, жену Уильяма Райнлендера Стюарта. Мисс Райан выступила с предложением:
— Мистер Уолмсли, если письма вскрывают, то, может быть, лучше писать открытки? Их можно читать не вскрывая, и они будут быстрее доходить.
Уолмсли явно не видел в идее мисс Райан плюсов — ни в смысле экономии времени, ни в смысле избежания неприятностей. Между тем миссис Гершвин вполголоса уговаривала Джерри Лоза ринуться в бой:
— Ну же, солнышко, спросите его насчет микрофонов!
Лоз поймал взгляд дипломата.
— Тут есть которые беспокоятся, — сказал он, — насчет такой возможности, что у нас в номерах будут микрофоны.
Мистер Уолмсли кивнул.
— По-моему, возможность — это мягко сказано. Исходить надо из того, что они там есть. Но, конечно, наверняка знать невозможно.
Последовала пауза. Миссис Гершвин теребила бриллиантовую брошку и, по-видимому, ждала, что Лоз поднимет вопрос о скрытых камерах, но он не успел, так как слово вновь взял Маккарри.
Он подался вперед, ссутулив мощные плечи. Его мнение такое, сказал он: хватит ходить вокруг да около, пора о деле поговорить.
— А дело вот какое: что отвечать, коли спросят о политике? Я имею в виду негритянский вопрос.
Заданный низким, тяжелым голосом Маккарри, вопрос этот прокатился по залу океанской волной, завладевая на своем пути безраздельным вниманием слушателей. Уолмсли заколебался, как будто прикидывая, нырнуть под волну или проплыть на гребне; одно было ясно — ему не хотелось бы встретиться с ней лицом к лицу.
— Вы не обязаны отвечать на вопросы политического характера, как и они на ваши. — Уолмсли откашлялся и добавил: — Это минное поле, и ходить по нему надо с большой осторожностью.
Поднялся ропот — совет дипломата явно никого не удовлетворил. Лаури начал что-то шептать Уолмсли на ухо, а Маккарри пошептался с женой, меланхоличного вида женщиной, которая сидела рядом с ним, держа на коленях трехлетнюю дочку. Потом он снова заговорил:
— Но нас точно спросят про негритянский вопрос. Они всегда спрашивают. Прошлый год мы ездили в Югославию, так там все время...
— Ну да, конечно, — бесцеремонно перебил его Уолмсли. — Для этого все и задумано. В этом-то вся соль, верно?
Слова эти, а может быть, тон, каким они были сказаны, явно пришлись публике не по нраву; и Джерри Лоз, о чьем бешеном нраве ходили легенды, напрягшись, вскочил на ноги.
— Так чего делать-то? Говорить правду, все как есть, или замазывать? Вам-то что требуется?
Уолмсли моргнул, снял очки и протер их.
— Нет, отчего же, говорите правду, — сказал он. — Поверьте мне, сэр, русские знают о негритянском вопросе не меньше вашего, и им на него абсолютно наплевать. Им важны заявления, пропаганда — то, что можно использовать в их интересах. Следует помнить, что все, что вы скажете в интервью, будет подхвачено американской прессой и перепечатано в газетах у вас дома.
Тут встала с места женщина — первая, открывшая рот.
— Мы все знаем, что дома у нас есть дискриминация, — застенчиво сказала она, и к ней все уважительно прислушались. — Но за последние восемь лет негры многого добились. Мы прошли большой путь, этого у нас не отнимешь. Мы можем с гордостью указать на наших ученых, артистов. И если рассказать об этом в России, то это, наверное, принесет пользу.
В том же духе высказались и другие. Виллем Ван Лоон, русскоговорящий сын покойного историка, ведавший в Эвримен-опере связями с общественностью, был “очень, очень рад, что этот вопрос так подробно обсуждается. На днях я записывал интервью с парой исполнителей на радиостанции для американских военных здесь, в Германии, и было ясно, что в этом пункте, в расовом то есть вопросе, надо быть крайне, крайне осторожным, учтя, что мы так близко от Восточного Берлина и возможность подслушивания…”
— Кстати, — негромко перебил его Уолмсли, — надеюсь, вы понимаете, что нас и сейчас подслушивают.
Ван Лоону это явно не приходило в голову, как и никому из собравшихся, судя по общему ужасу и испуганному озиранию вокруг с целью понять, на кого намекает Уолмсли. Однако подтверждения его слов, в виде таинственных незнакомцев, не обнаружилось. Ван Лоон говорил еще долго, но его бессвязная речь постепенно сошла на нет, как и само собрание. В благодарность слушатели похлопали дипломатам, и оба порозовели.
— Спасибо, — сказал Уолмсли. — Очень приятно было с вами побеседовать. Нам с мистером Лаури нечасто доводится дышать атмосферой кулис.
После этого режиссер спектакля Роберт Брин стал созывать исполнителей на репетицию, но переливание из пустого в порожнее по поводу “брифинга” продолжалось еще долго. Джерри Лоз высказался коротко: “Информации ноль”. Миссис Гершвин, наоборот, была подавлена изобилием информации.
— Я просто убита, солнышко. Только подумайте, вот так жить! Все время подозревать и никогда не знать точно. Радость моя, но где же нам сплетничать?
Обратно в гостиницу меня подвез ассистент Брина, Уорнер Уотсон. Вторым его пассажиром был доктор Фабиан Шаппер, американец, оказавшийся студентом Германского института психоанализа. Ходили слухи, что его пригласили в российское турне на случай “стресса” у кого-нибудь из труппы. Правда, в последнюю минуту доктора Шаппера, к большому его огорчению, не взяли: начальство решило, что без психиатра, наверное, все-таки можно и обойтись; возможно, сыграло роль и то, что психоанализ в Советском Союзе не жалуют. Но тогда, в такси, он был занят тем, что уговаривал Уорнера Уотсона “расслабиться”.