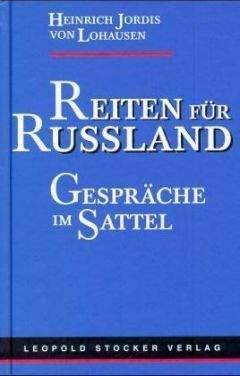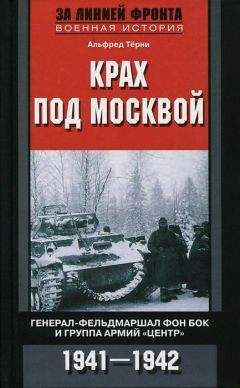На это сидевший на вороном коне заметил: — Ты бы тоже хотел стать моряком, как я?
— Нет, — прозвучал ответ, — Кёнигсберг — это для меня самое правильное место на этой земле. В этом отношении во всей Германии нет города, который можно было бы сравнить с ним, таким неограниченно открытым в разные стороны.
— Я, — признался офицер на вороном коне, — хотел, чтобы меня призвали на флот. Но там для меня не было места.
— Тогда мы товарищи по несчастью, — заметил едущий в середине, — я тоже мальчишкой хотел на море, тоже хотел во флот, потому что я до 1914 года видел этот флот в Поле живым перед глазами. Но когда я достаточно подрос для флота, всего этого уже не было: ни флота, ни чудесного далматинско-истринского побережья, вообще, ни одной полоски соленой воды больше, которая еще принадлежала бы нам хоть где-нибудь. Нас выгнали от всех морей, выгнали от мира, сжали в невообразимую для нас до тех пор тесноту.
— Как будто бы весь мир тоже не стал за это время тесным в целом, — продолжил всадник на вороном коне, — и тем временем он стал не только тесным, он просто стал одним миром, и в нем нельзя стоять на месте: нужно или развиваться, двигаясь вперед, или падать, никак иначе. Поэтому поверьте мне: если мы не выиграем эту войну, то не пройдет и ста лет, и немецкий язык будет забытый миром стоять в углу так же, как сегодня датский язык или голландский язык. Естественно, мы и тогда еще будем говорить на нем, и, вероятно, еще несколько коммивояжеров, которые захотят продавать нам свой хлам, или тот или другой студент, которому нужно будет написать диссертацию о Гёте. Но ни одним человеком больше! Даже наши дети будут с большей охотой читать английские и испанские книги, чем немецкие; наверняка, русские. Они будут читать их охотнее, так как дыхание большого мира тогда будет приходить к ним только лишь оттуда. Бог не только на стороне более сильных батальонов, он также на стороне языков, на которых разговаривают больше всего людей.
Вы, конечно, тоже можете сказать: Дух веет, откуда он хочет и к кому он хочет. Но если он хочет многих, если он хочет охватить человечество, тогда не только его дыхание должно быть сильным, но и должен быть натянут широко тот парус, который ловит его. Если он хочет пользоваться нашим языком, то наше дело добиться, чтобы его слушали. Для этого мы существуем. Это для меня смысл и оправдание также и этого похода, первая и самая благородная миссия. Крохотные Афины подарили миру больше мысли, чем до сих пор вся Америка от Огненной Земли до Аляски. Но мысли жителей Афин стали общим достоянием всего мира только потому, что они произносились по-гречески и писались по-гречески. Так они путешествовали дальше по всему побережью Средиземного моря — переписанные тысячами экземпляров и сохраненные в сотнях разных мест. Так некоторые из них добрались до нас и благодаря нам — до всех побережий земли. Никто бы не знал сегодня об афинской духовности, если бы жители Афин говорили тогда на фригийском или каппадокий-ском языке. Также тот, кто зажег новую мировую религию — должен был нести слово людям на греческом языке, на греческом языке перенести через моря, так как его арамейский язык не понимали нигде вне Галилеи.
Видели ли вы кого-то из этих голландских школьников, которые каждый вечер сидят дома и учат один иностранный язык за другим? Они это делают не ради удовольствия и не только, чтобы позднее заниматься торговлей, а чтобы узнавать из первых рук, что происходит вне их маленькой страны. Они никогда не смогут узнать это на голландском языке. «Мир» не знает их языка. Их отцы зашли в тупик, когда они примерно триста лет назад отделились от нас. То, что они сделали это, прежде всего, в политическом отношении, играет при этом небольшую роль. Более роковым — для нас, но еще больше для них — было то, что они сделали их нижненемецкий диалект своим литературным, письменным языком; в этом прекрасному нашему нижненемецкому диалекту повезло — благодаря этому у него есть шанс как-то еще дожить до следующего тысячелетия, но повезло ли при этом самим голландцам и фламандцам? Швейцарцы были в этом умнее. Они придерживались литературного немецкого. Но они говорят дома, все же, на своем швейцарском диалекте.
— И было бы жаль, — заметил скачущий справа, — если бы этой странной разновидности немцев не существовало. Жаль почти каждого своеобразия в мире. Этих своеобразий остается все меньше. Раньше были языки, на которых разговаривали только несколько сот людей. В отдаленных долинах такое бывает еще сегодня.
— Но как долго еще? — прозвучало возражение. — Все больше и больше все зависит только лишь от тех языков, которые понимают миллионы, нет, даже сотни миллионов людей. Это печально, с этим я согласен, но дух времени идет с большим числом, и, как кажется, это уже нельзя изменить!
— В эпоху масс и не может быть иначе, — заметил другой. — Разве, например, у избирательной урны оценивают голоса? Нет, их только считают. Голос ли это хирурга, которому тысячи людей обязаны своей жизнью, или печально известного пьяницы, голос ли это смелой вдовы, которая одна воспитала семерых детей, или маленького, только что ставшей совершеннолетней, девчонки — это все равно. Считается не человек, считается голос. Трус и симулянт обладает перед избирательной урной таким же правом, как летчик с рыцарским крестом или гренадер со знаком отличия за ближний бой. Избирательный бюллетень кретина весит не меньше, чем избирательный бюллетень мудреца. Если бы Гёте отправился на выборы, он не мог бы сказать больше, чем первый попавшийся, который крадет его мысли.
— Но не только неизвестный избиратель определяет на продолжительное время лицо нашего времени, а гораздо больше, и еще более длительным образом, — возразили ему, — неизвестный покупатель. Каждый новый выданный миллиард долларов или франков или каких-либо других денег становится роковым для лесов, которые безжалостно вырубают, для звериных стай, которых безжалостно убивают, или для остатков старой культуры, которые бесстыдно осматриваются до смерти. Каждый, кто бездумно покупает одну из этих бульварных газет толщиной в палец или пожирает один из этих кусков мяса размером с тарелку, является соучастником. Миллионы неистовых покупателей — это — вместо императоров и королей давних времен — величества сегодняшнего дня. Горе, если они — чужие величества. Мы же еще детьми пережили дни инфляции, внезапного обесценивания денег: буханка хлеба сегодня стоит три миллиона марок, завтра уже десять!
— Это называлось «распродажей», — подхватил левый из двоих мысль собеседника, — распродажей экономической и духовной. Да — и духовной тоже!